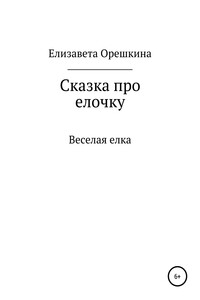Травяная улица | страница 58
Женщины не плавают, а то и дело в воду приседают; на них большие грудедержатели и становящиеся прозрачными от воды белые миткалевые штаны; на некоторых — вытянутые и висячие — вискозные. Некоторые из женщин умеют плавать по-собачьи, тогда на ягодицах их вздувается воздух внутри мокрой порозовевшей вискозы, а сами они медленно, как больные водомерки, ползают своими телами по воде.
Дети не кричат и не играют. Вода не плещет совсем, а значит, не блещет. Зато блещет надо всем солнце, и тела у всех кроме детей неживые и белые, а у мужчин под животом чернота, и в ней белый детородный член.
Если сам не купаешься, то иногда все-таки пройдешь мимо пруда, вокруг которого и в котором сидят люди, а кое-кто, вертясь вьюном, спасает свою жизнь. Но близость небольшой этой воды не создает ощущения прохлады, и пусть на тебе нездешние белые брюки в переброску и белая рубашка с засученными рукавами — нельзя же ходить, как местные, в сетках на волосатой груди и в носовых платках с узелками по углам на голове, — и пусть чуть дальше и впереди видны за забором летнего кино высокие белые березы, и кажется, там есть, есть зыбучая мелколиственная тень — все равно жарко невыносимо, а главное — непривычно, и дома оставаться невозможно — задыхаешься. И ночью будет душно, потому что странный и непривычный деревянный дом прокаливается за день на сковородке своей железной крыши, и лежишь под простыней, вернее, скомкаешь и собьешь ее, и дышишь, как дышат люди в июле, когда вот-вот растрескается земля.
Остается трогать в темноте одинокие предметы. Очки на придвинутом стуле, выпуклый циферблат карманных часов, откинутую их крышку и тяжелую цепочку, а часы тикают: так-тик, так-тик, показывая тот так и не пойманный ритм, когда, давая умирающей дочери кислород, никак не сладишься с ее отчаянным дыханием и нажимаешь на подушку невпопад, — надо бы: воз-дух, воз-дух, воз-дух, а получалось почему-то: хри-петь, хри-петь, хри-петь…
И, как до этого многое, подушка быстро кончилась, вконец сбив ее паническое уже дыхание, которое тоже скоро кончилось. И все кончилось. И не осталось никого.
Никому и никогда не хочется смотреть на человека, несущего кислородную подушку. Трудно сказать почему. Тем же, кто кислородные подушки несет, неловко от этого. Неловко за все: потому что подушка велика, а воздуху все равно в ней мало, потому что спешишь, а все равно медлишь — надо же незамедлительно! — потому что это последнее средство — тогда зачем? — потому что оно не спасает — тогда для чего? Всегда неприятно видеть кислородную подушку, с которой человек садится, скажем, в трамвай, а трамвай все равно идет со всеми остановками. А видеть ее неприятно потому, что она сопричастна удушью. Думать про удушье невыносимо. Никто не любит думать про удушье. Спасся с дочерью от одного удушья, она умирает от другого удушья, а ты вот теперь не можешь уснуть от духоты.