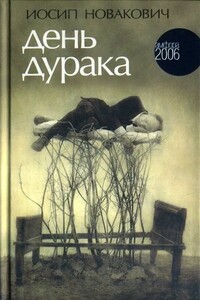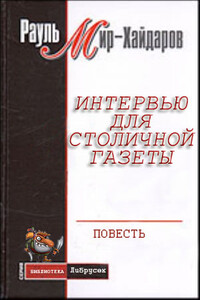Город М | страница 11
Обычная на первый взгляд, она выглядела обычной лишь с одной стороны, со стороны Егорушки. Но со стороны старшого, куда Егорушка тут же и перебежал, заинтересованный его интересом, на ней была голова лошади. Это Егорушка понял в один миг.
– Тяни! – без голоса сказал он.
Старшой потянул.
– Нефней, ганюка!
Старшой потянул нежней и повалился.
– Абов-ва-ал! – пискнул Егорушка.
Но был неправ, поскольку лошадь осталась целой – с ногами, туловищем и хвостом, вороная лошадь на фоне чего-то очень желтого, может быть – забора. А под ней – когда старшой, обтерев рукавом, передал дощечку Егорушке,– очень отчетливо и кроваво прочитывалась подпись, которую, однако, еще предстояло прочесть.
– Кажись, буквицы,– заметил старшой и на всякий случай кашлянул в горсть.– Мелконькие…
Телогрейцы, которые – пошвыряв плечами, которые – шаря папиросы, рассматривали облака, будто зенитный дозор.
Егорушка оглянулся. Кругом громоздились камни и, как положено, курились дымом.
– Мальфик,– сказал Егорушка.
Шагах в двадцати ковырялся в обломках замурзанный пацаненок с чайником в руке.
– Эй! – гаркнул старшой.– Подь сюды, смерд!
Пацаненок подошел, звякая чайником.
– Подь ближе! Кто таков?
– Мамку ищу,– сказал пацаненок.
– Мальфик,– повторил Егорушка. Он постарался улыбнуться, напугав даже старшого. Малец рванулся бежать, но далеко не убежал. Тряся за шиворот, старшой сунул его носом в дощечку.
– Какая муква? – указал Егорушка.
– Грамоте учен, холоп? Отвечай!
– Ре-е…– проблеял пацаненок.
– А не врешь? А эта?
– А-а… ой, пустите, дяденьки!..
– Пустим, коль не соврешь. Клади в слово!
– Рафаэ-эль, пустите! Ой, Рафаэль!
– А не врешь?
– Ввет,– сказал Егорушка.– Не Вафаэль. Не Вафа-эль, а Ва-фа-ил,-продиктовал он, глядя на телогрейцев.– Ну?
– Ра-фа-ил! – грянуло над пожарищем.
Старшой отвел ногу. Красный сафьяновый сапог врезал мальчонке под зад, зеленый "Запорожец" щелкнул дверцами, и Егорушка с Рафаэлем за пазухой впервые подумал о будущем без отвратительного дрожания в животе.
Что это была за мысль, сказать трудно. Все мелькало быстро, цветасто и мутновато. Ясно было только одно: в "красный уголок", где было эхо, Егорушка, подкравшись и приоткрывши дверь, запускал слово "Рябыка" и, послушав, в некотором даже недоумении возвращался в кабинет – он не боялся Рябыки. Более того, иногда он пробовал шепнуть слово "пенсия" и слушал его очень внимательно и с любопытством.
Затем подступила осень, и в музее потекла крыша, и Егорушка, потрясенный словом "музей", вдруг увидел этот самый зал, в коем несть ничего мирского, кроме охраны, градусников и почетных делегаций. Он рисовал залы в календаре, и потому – за зиму и весну – залов накопилось штук сто пятьдесят, и в каждом указывалось, где сидеть ему, и как входить им, и откуда свет, но на это надо было решиться, и наконец это решилось тоже вдруг и как бы самостоятельно.