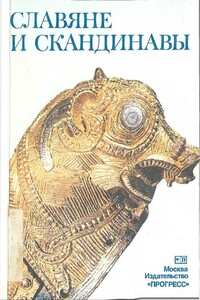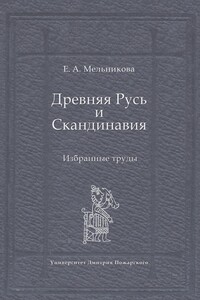Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе | страница 78
эпических сюжетов в среде слушателей. Рассказчик может позволить себе краткие намеки на дела давно минувшие и на грядущие (для Беовульфа или данов) события лишь потому, что все слушатели знают и помнят другие сказания, подробно повествующие о них, и потому эти аллюзии были поняты и соотносимы с развертывающимся действием.
Упоминания и рассказы о прошлых и будущих событиях буквально переполняют поэму. Они вводятся и в авторской речи (например, все четыре отступления о походе Хигелака), и в речах персонажей (так, Хродгар упоминает о бывшей когда-то размолвке Эггте-ова, отца Беовульфа, с геатами; Беовульф подробно рассказывает Хигелаку о грядущей судьбе дочери Хродгара, выданной замуж за Ингельда, и т. д.). Они вызывают постоянные остановки в развитии сюжета, прерывистость основного временного плана — настоя-щего48.
В то же время все отступления имеют и тесную связь с настоящим. Прошлое объясняет настоящее, раскрывает существо происходящего в нем; будущее является прямым следствием и развитием отдельных моментов настоящего и потому тоже неотделимо от него. Прошлое и будущее являются в поэме функциями настоящего и воспринимаются через его призму. Тем самым настоящее в поэме, т. е. время протекания событий сюжета, выдвигается на первый план, выступает более рельефно и ярко.
Что же представляет собой сюжетное время поэмы? В первую очередь оно строго линейно. Насколько легко забегает в будущее и возвращается в прошлое рассказчик в различных деталях, уточняющих действие, настолько жестко выдерживается им последовательность событий самой фабулы. Действие за действием проходят перед слушателем, и каждое из них занимает отведенное ему место во временном ряду, причем в одном временном отрезке содержится лишь одно событие, в какой бы точке пространства оно ни совершалось. Каждое из них обусловлено предшествующим, и потому оно не может быть передвинуто на хронологической шкале. Исключение составляют лишь две оговорки рассказчика перед битвами Беовульфа с Гренде-лем и драконом, когда он заранее как бы предупреждает, чем закончится предстоящее сражение:
...а вождь был должен дни этой жизни
в битве закончить, убив чудовище...
(Беовульф, 2341—2342)
Но эти предсказания будущего также основаны на общеизвестности фабулы, само повествование рассчитано не на сообщение совершенно новой информации, а на воспроизведение уже известного, и потому «предсказания» как бы удостоверяли традиционность рассказываемого и концентрировали внимание слушателей на том, как, а не что рассказывается.