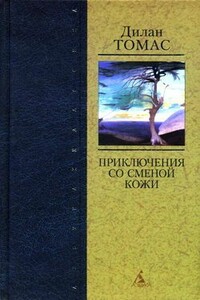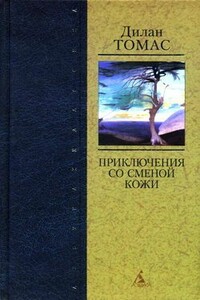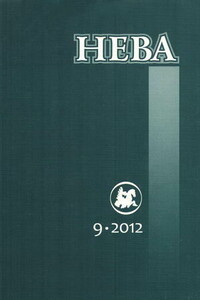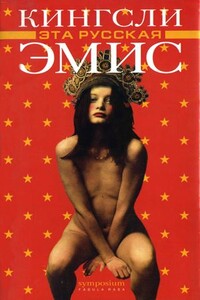Рассказы | страница 16
А потом чего делать будем?
Кого-нибудь будем преследовать.
Помнишь, как мы ту старушенцию преследовали по Китченер-стрит? Она еще сумочку уронила?
Зря ты ей не отдал.
Да там и было-то — кусок хлеба с вареньем.
Приехали, — сказал я.
В «Мальборо» было холодно и пусто. На мокрых стенах плакаты: Не петь. Не танцевать. Не играть в азартные игры. Не торговать.
Ты пой, — сказал я Лесли, — а я станцую, а потом мы сыграем в очко и я продам свои подтяжки.
Девица за стойкой, с золотыми волосами и двумя передними золотыми зубами, как у богатого кролика, дула себе на ногти и полировала их на черной тряпочке. Она глянула на нас, когда мы вошли, потом снова стала обдувать свои ногти и безнадежно полировать.
И не скажешь, что суббота, — сказал я. — Привет, мисс. Две пинты.
И фунт из кассы, — сказал Лесли.
Давай твои средства, Лес, — шепнул я, а вслух я сказал: — Ни за что не скажешь, что субботний вечер. Никто не блюет.
Никто и не будет блевать, — сказал Лесли.
В этой облезлой, рыжей комнате, может, вообще никогда никто не напивался. Дельцы, потягивая виски с содовой, потчевали портвейном с лимоном крашеных веселых девиц; завсегдатаи по углам кисли, важничали, балдели, сочиняли свое прошлое, были богаты, чтимы, любимы; непутевые бабушки в мусорно-черном поквохтывали и клевали; влиятельные ничтожества изменяли землю; компания в серьгах терзала больное пианино, и оно ныло, как шарманка, заводимая под водой, пока жена хозяина не объявляла «Хватит». Кто-то входил, уходил, но больше уходили. Мастеровые забредали на кружку-другую; иногда бывали драки; и вечно что-то шло: перепалки, разборки, хохот, шепот, взрывы гнева, веселья, вспышки злобы, любви, и чушь, тишь, мир, и тихий ангел в полете рассекал пьяный дух пошлой нигдешности тупого города, оторопевшего в конце железнодорожных путей. Но сегодня это была самая грустная комната на свете.
Лесли тихонько сказал:
Может, она нам поверит в кредит по одной?
Погоди, — сказал я. — Пусть она сперва оттает.
Но девица за стойкой услыхала и посмотрела на меня. Она посмотрела прямо сквозь меня, сквозь всю мою недолгую судьбу, до самой до той постели, где я родился, а потом покачала своей золотой головой.
Сам не знаю, в чем дело, — сказал Лесли, когда мы шли под дождем по Крымской, — только у меня сегодня прямо тоска.
Это самый грустный вечер на свете, — сказал я.
Мокрые, одинокие, мы остановились поглядеть на кадры в витрине кино, которое мы называли Страстюшник. Неделю за неделей, годами, годами сидели мы там на жестких стульях в моросящей, уютной, порхающей тьме, сперва с конфетами и орешками, трещавшими вместо немых выстрелов, а потом с сигаретами: особый дешевый сорт, от которого глотатель огня закашлялся бы насмерть. «Пошли поглядим на Толмедж Львиное Сердце, — сказал я, — и… на Бири с камелиями, сказал я, — и на Мэри Гиш, и на Лилиан Пикфорд».