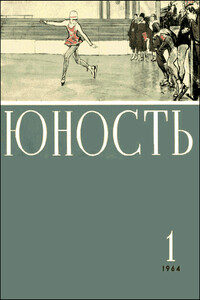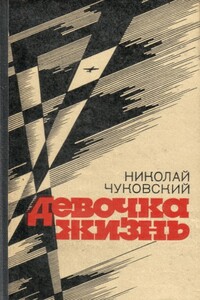Литературные воспоминания | страница 38
Однако десяток занятий отец все-таки провел. Начал он с того, что дал своим студистам задание: написать критическую статью о стихотворениях С. Надсона. Подобно большинству литераторов того времени, отец мой считал Надсона одним из самых плохих поэтов на свете, как бы учебно-показательным образцом плохого поэта. На следующем занятии отец уже разбирал принесенные статьи. Статьи были беспомощные, плохие, и отец эффектно и радостно высмеивал их недостатки. Особенно долго и беспощадно издевался он под общий хохот над одной статьей, автор которой, тоненький небольшой молодой человек с военной выправкой, с красивым лицом итальянского юноши, сидел на самом дальнем стуле в конце комнаты. Смуглые щеки его бледнели от смущения и обиды. Это был Михаил Зощенко, и статья о Надсоне была первым его литературным произведением. Разобидевшись на моего отца, он перешел в семинар прозы, которым руководил Евгений Иванович Замятин. И стал писать прозу.
Самыми способными людьми в семинаре моего отца, выделившимися с первых же занятий, оказались два студента Петроградского университета: Лев Лунц и Илья Груздев. На одном из занятий отцовского семинара Лунц прочитал реферат о прозе Андрея Белого. Когда семинар по критике прекратил существование, Лунц и Груздев тоже перешли в семинар Замятина.
В семинаре у моего отца начали свое студийское существование и две самые хорошенькие девушки Студии — Дуся Каплан и Муся Алонкина. Не помню, в какой семинар пошли они после прекращения семинара по критике, но Студии они не покинули и играли в ней все возрастающую роль.
На семинаре у Замятина я ни разу не был,— мне не приходило в голову, что я когда-нибудь буду писать прозу. Но видел Замятина часто. Это был тогда человек лет тридцати пяти, крепкого сложения, среднего роста, светлый шатен, аккуратно причесанный на пробор. Насмешливые глаза, длинный тонкий мундштук в насмешливых губах, клубы табачного дыма, разгоняемые рукой, до самых ногтей заросшей густыми рыжими волосами. По образованию он был инженер-кораблестроитель и перед революцией несколько лет провел в Англии, где наблюдал за постройкой ледоколов, заказанных русским правительством. Его книги – «Уездное», «На куличках» и «островитяне» – были тогда весьма известны и не то чтобы нравились, но считались хорошо написанными, – их стилистическая замысловатость вызывала почтение в тогдашних литературных кругах.
Замятин тоже был участником всех горьковских мероприятий первых лет революции. К Горькому его привело враждебное отношение к саботажу. К белогвардействовавшим литераторам он относился презрительно и брезгливо. Но литературно между Замятиным и Горьким не было ничего общего. Замятин как писатель был ученик и последователь Алексея Ремизова (хотя, кажется, лично находился с ним в плохих отношениях). Подобно Ремизову, он был эстет, во фразе больше всего ценивший вычурность, а в сюжете – эксцентричность. Повторяю, я никогда не был у него на семинаре, но то, что я слышал от его учеников, убеждает меня, что преподавание его отличалось тем же доморощенным формализмом, что и преподавание Гумилева. Помню, мне рассказывали, что прежде всего он требовал от своих учеников полного отказа от общепринятых авторских ремарок к прямой речи героев, вроде: «сказал он», «подумала она», «возразила Марья Петровна». Беда Замятина как писателя заключалась в том, что тем художественным методом, которым он владел и который признавал единственно ценным, невозможно было изобразить события революции,— подобно тому, как невозможно было их изобразить художественным методом «Цеха поэтов». Влияние Замятина, безусловно, сказалось на пышном развитии в двадцатых годах так называемой «орнаментальной» прозы, которая теперь, тридцать лет спустя, кажется совершенно неудобочитаемой. Посмотрите повесть «Рясная ягода» Николая Каткова, одного из самых усердных и правоверных участников замятинского семинара, вышедшую отдельной книжкой в 1924 году; в ней все так закручено и мудровато, что невозможно одолеть и двух страниц. Из учеников Замятина впоследствии лишь те остались в советской литературе, кому удалось преодолеть влияние своего учителя. К счастью, это удалось довольно многим.