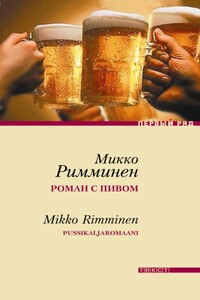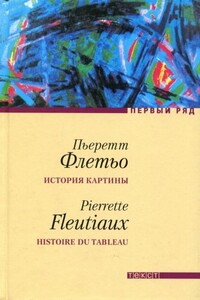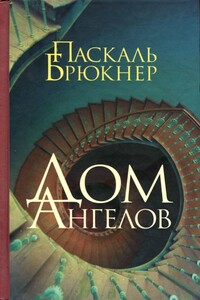Мой маленький муж | страница 39
Случись Соланж проснуться и сесть в такую минуту, она стряхнула бы Леона, точно крошку, вниз, на простыни. Он сам себе казался муравьем на стволе секвойи, но что с того — ему был неведом страх. Совершенны были черты этой женщины, безукоризненна их симметрия. Рассматривать ее — все равно что созерцать фасад готического собора или дворца эпохи Возрождения, восхищаясь как чудом всего ансамбля, так и красотой отдельной детали. Высоко над ним, точно полная луна на небосклоне, лицо Соланж излучало сказочное сияние, повергавшее его в трепет и наполнявшее восторгом. Божественна — да, она была божественна.
Со временем он так осмелел, что позабыл наказы жены: она запретила ему ходить… сами догадайтесь куда! — и просила не спать голышом во избежание соблазнов. Он с вечера прятал в кармане пижамы нейлоновый шнурок и привязывал его ночью к левому соску жены — это была глыба плоти величиной с его ногу, с зернистой поверхностью — ни дать ни взять скальный крюк, — твердевшая под воздействием холода. Леон спускался, как заправский альпинист, проходил под огромной грудью (95Е), высоким куполом белевшей в ночи, огибая слева решетку ребер, слышал барабанный бой сердца, пересекал котловину солнечного сплетения и располагался биваком у пупка — широкого, как кратер вулкана, колодца, окружавшего сложный рисунок, что-то вроде двойной спирали, оставшийся после отсечения пуповины. Изнутри расширяющейся книзу корзины он слышал треск и бульканье. Там, под этим пневматическим матрасом, что-то рокотало, как засорившийся водопровод.
Соланж переваривала пищу, укрепляла свое огромное вместилище. Пройдет несколько часов — и опустевший желудок снова заурчит, требуя еды. Три беременности не испортили ее форм, она лишь немного округлилась, и этот намек на полноту особенно умилял Леона. Тело Соланж жило и дарило жизнь, этим оно и было прекрасно. Ее живот вздымался и опускался в ритме дыхания, укачивая Леона, порой он незаметно засыпал, и тогда приходилось чуть свет карабкаться, обдирая руки, наверх, отвязывать веревку и поспешно нырять в карман. Он и тут рисковал: если бы Соланж вдруг встала по неотложной надобности и обнаружила повисшего на левой груди паучка — что бы она сказала? Уж наверно, задала бы ему хорошую трепку. Иногда Горчичному Зернышку хотелось покрасоваться: он гарцевал на своей Необъятной, бежал во всю прыть по склонам живота, порой добирался до пышных, мягких бедер, где заманчивых складочек хватило бы на сотню таких Леонов, прыгал и кувыркался, благо падать на свою толстушку ему было очень мягко. Но ни разу он не отважился спуститься ниже пупка, туда, где начинается сухая полоса густой растительности: эта зона, огороженная кордоном трусиков (белый атлас, размер 50), была для него запретной. Уменьшившись, он потерял доступ туда. Он больше не был мужем Соланж — всего лишь временным жильцом ее роскошной анатомии. Жить на ней было все равно что в гареме, где тысяча разных женщин воплотились в одной. Если он тайком присвоит частицу ее, думалось ему, — это не воровство.