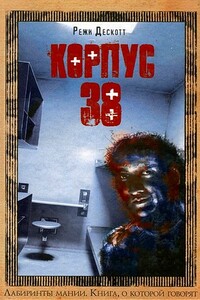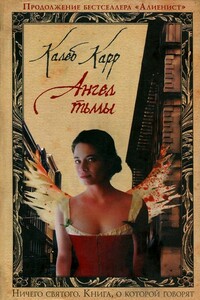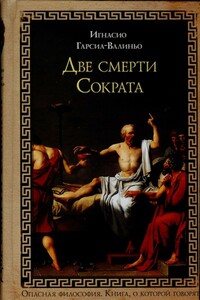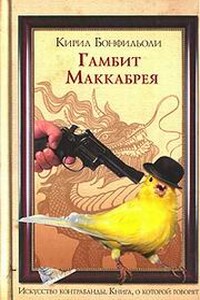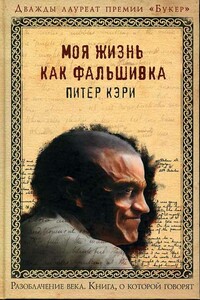Кража | страница 20
— Оноре Ле Ноэль — жалкий шут, — сказала она. — Он состоял любовником Доминик Лейбовиц, если слышали.
Даже сейчас трудно объяснить, до какой степени раздражал меня этот разговор. Вот я тут, на задворках, а она явилась из самого, черт побери, центра вселенной. Я знал ровно столько, сколько вычитал из журнала «Тайм»: Доминик сначала работала у Лейбовица натурщицей, а Ле Ноэль был биографом и преданным знатоком его искусства.
На втором стакане вина гостья уже трещала без умолку. Из ее уст я услышал, что Доминик и Оноре тянули почти восемь лет, после войны и до 1954 года, дожидаясь, пока Лейбовиц умрет. (Мне припомнилось, как выразительно описывает Ле Ноэль в своей биографии мощного, выносливого художника, полного жизненных сил: короткие сильные ноги, крепкие, почти квадратные кисти.)
Лишь когда его позднему сыночку исполнилось пять, продолжала свой рассказ невестка Лейбовица, а самому художнику стукнуло восемьдесят один, суровый жнец явился за старым козлом, ткнул его лицом вниз, когда он поднялся из-за стола с пенящимся бокалом в руке. Он рухнул ничком, разбил широкий нос, очки в черепаховой оправе упали в тарелку дня сыра (работы Пикассо[11]). Так повествовала моя гостья — бегло, чуточку с придыханием. Допила второй бокал, так и не похвалив вино, за что я в глубине души сурово ее осудил.
— Тарелка пополам, — подытожила она.
Ты-то, блядь, почем знаешь, свирепствовал я про себя. Тебя еще и на свете не было. Но я в жизни не встречал человека, реально знакомого со знаменитыми людьми, и забыл, что она вышла замуж за живого свидетеля этой сцены, мальчика со смуглой кожей и огромными сторожкими глазами, слегка торчащие уши ничуть не портили его красоту. В тот миг, когда его отец рухнул замертво, мальчик как раз хотел отпроситься из-за стола, но молча обратил взгляд к матери и ждал ее указаний. Доминик не притянула его к себе, только провела по щеке мальчика тыльной стороной руки.
— Papa est mort.
— Oui, Maman.[12]
— Ты понимаешь: пока никому не слова.
— Oui, Maman.
— Мама должна убрать картины, понимаешь? А снег мешает.
С тех пор мне довелось наблюдать за французскими детьми — как они тихо сидят, ручки с чистыми ноготками сложены на коленях, большие темные глаза вбирают все. Чудо, а не дети. Так, наверное, сидел Оливье, смотрел на мертвого отца, терзаемый внутренней и более неотступной проблемой: в тот момент, когда отец умер, он как раз собирался сходить пи-пи.
— Сиди тут и ни с места, понял?