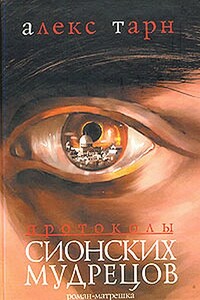Книга | страница 27
— Что-то мы часто обниматься стали.
Клим отстранился и какое-то время рассматривал друга, поблескивая маленькими выцветшими глазами.
— Раздобрел, раздобрел… сидишь все, небось, по клавишам бьешь? Эх, Сева, Сева…
Сели за стол, отхлебнули красного ирландского эля. Сева молчал, не зная, с чего начать.
— Веришь ли, — сказал Клим, искоса поглядывая на него. — Из всех искусств для нас важнейшим является «Murphys». В Иудейской пустыне есть все, необходимое человеку, кроме хорошего пива.
— И давно ты это установил?
— Насчет пустыни? Давно. Пятый год пошел.
— Сволочь.
Клим неловко поерзал на скамейке.
— Ну, виноват, согласен. Извини. Тут ведь как получается — чем дальше, тем виноватее себя чувствуешь. А чем виноватее, тем труднее признаться, вот такой заколдованный круг. Все откладываешь на потом, все дальше и дальше… Если уж на то пошло, я вообще здесь случайно оказался.
— С судном?
— Ты знаешь, что я плавал? — Клим вскинул удивленные глаза. — Ну ладно, не важно… Да, с судном. Зашли в Хайфу, встали под разгрузку, а тут забастовка. Застряли на неделю.
Он начал рассказывать, сначала характерными для него скупыми короткими предложениями, а потом мало-помалу воодушевился, и это был уже новый Клим, похожий на прежнего не больше, чем техасский ковбой-пистолетчик из голливудского вестерна походит на бледнолицего питерского шабашника эпохи застоя. Кривя губы, он говорил о своих последних российских годах, уже после севиного отъезда: о том, как все разом хлопнулось, вернее, лопнуло, без следа, как лопается воздушный шарик… нет, хуже — потому что от шарика хотя бы остается мятая резиновая шкурка, а тут не осталось ничего, совсем ничего, кроме ощущения сбывшихся предчувствий, которое тоже ничуть не утешало, а только пугало… пугало еще более гадким предчувствием дальнейшего.
Говорил о мерзости, вдруг поползшей из всех щелей в образовавшуюся пустоту — мерзости хамской, нахрапистой и откровенной, даже не пытавшейся выдать себя за что-то другое. Говорил о невозможности жить по новым правилам, вернее, по новому правилу, потому что осталось только оно, единственное, гласящее: «правил больше нет!» Никаких! И это полное отсутствие ограничений парадоксальным манером продуцировало в Климе и схожих с ним людях не чувство свободы, как, вроде, должно было произойти, а удушье, страх и растерянность. В этой ситуации даже прежнее полусгнившее вранье казалось неимоверной ценностью…
И Клим сбежал. Сбежал в океан, на судно с командой в двадцать человек, где неделями не видят земли, где общение ограничивается кивком при передаче смены, где время настолько четко разграфлено расписанием вахт, что кажется застывшим, где можно разучиться говорить по-человечески, потому что даже крики чаек выглядят не в пример содержательнее людских речей. Два года хватило Климу на то, чтобы окончательно успокоиться и решить, что таким образом можно без всяких проблем тянуть и дальше, до самой смерти, а поскольку, в определенном смысле, корабельное существование и так уже сильно смахивает на смерть, то цель можно было считать достигнутой, по крайней мере, частично.