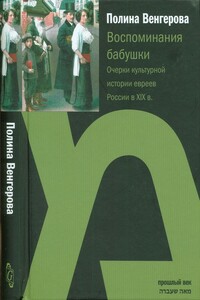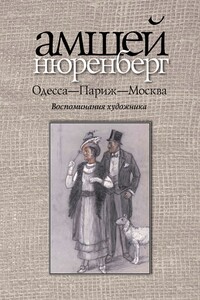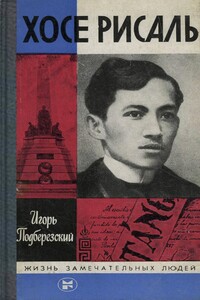ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский | страница 61
Повторяемость, ритм жизни, зачаровывает Шолом Аша. Если и смерть происходит ритмически, и та же река, что уносит в Данциг деда, унесет туда же и внука, то это уже не страшная река, и не страшная смерть.
Что же такое и любезный Шолом Ашу быт, как не высшая ритмичность, какая только доступна нашей жизни, как не сладостная повторяемость ее явлений!
И мы, сироты, без вчерашнего дня, незаконнорожденные, и кто из наших поэтов мог бы написать «Городок»? где наш «быт»? где наше «одеяло»? У всех наших писателей (кроме Куприна) словно выколоты глаза, — и что они видят пред собою, кроме «отвлеченного» человека, которого стережет «Некто в Сером»[146]? Пропал наш Городок, провалился сквозь землю, и выстроим ли мы новый, на это нет обещаний в русской литературе.
Интересно и драгоценно отметить, что даже природа — леса, небо, реки для Шолом Аша суть отражение все того же неколебимого «быта».
Звезды кажутся ему «субботними свечами, что гаснут в еврейском доме».
А «за чертою Городка вода шлет из страны в страну волну за волною, точно тихие молитвы, в которых она за все благодарит Тебя, Отец единый».
Или:
«По временам слышны слабые неуловимые звуки. Робким шепотом они облетают поля, леса. В них неуловимая тайна. В них быть может привет, который шлет сам Бог своему старому народу, собору Израильскому».
Или:
«Что-то плещется в воде… То покойники, вставшие из гробов, перелезшие через забор, купают свои души прежде, чем подняться на небо, к Верховному судье».
Или:
«Широкий простор неба тянется все шире, все дальше, точно он тоже куда-то стремится на субботу домой в безграничную даль».
Интересно сопоставить это с той «стихийностью», которую славит теперь русская литература. Может ли быть что-нибудь полярнее! С одной стороны человек, по уши потонувший в космосе, с другой стороны космос, исполняющий маленькие и затейливые обряды человека.
Как соединить хотя бы эти две стороны, не говоря уже о тысяче других!
Пьеса «На пути в Сион» того же Шолом Аша — чрезвычайно слаба. Она публицистична, мысль ее исчерпывается в самом ее начале, и дальше ей делать нечего, юмор ее фельетонный, и, что, может быть, главное — переведена она зверски. Некий г. Троповский, должно быть злейший враг г. Аша, надумал перевести эту пьесу русским былинным языком. Так и ждешь, что в ней Рохель-Лея скажет Реб-Хонону:
Так и пестрит перевод «женушками», «батюшками», «невестушками», «матушками», «дитятками» и т. д., и герои буквально говорят так: