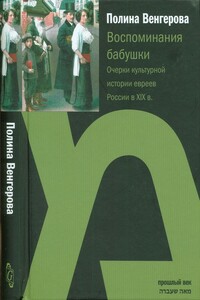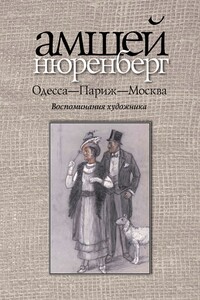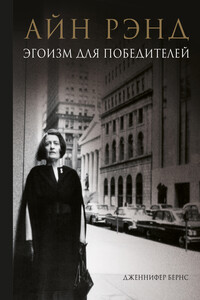ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский | страница 59
Еврей, вступая в русскую литературу, идет в ней на десятые роли не потому, что он бездарен, а потому, что язык, на котором он здесь пишет, не его язык; эстетика, которой он здесь придерживается, не его эстетика, — и я уверен, что, приведи сюда самого Шекспира и сделай его русским литератором, он завтра же заказал бы себе визитную карточку с золотым обрезом:
Вильям ШЕКСПИР
Корреспондент «Бирж. вед.»
— и поехал бы интервьюировать Стесселя[141]; или перевел бы Ведекинда[142]; или написал бы стихи в стиле Валерия Брюсова. Кто знает, сколько Шекспиров теперь толпится в репортерских комнатах газетных редакций, сколько душ, красивых и поэтических, бесследно и бессловесно погибают только оттого, что их сделали невольниками пушкинского, гоголевского, чеховского мира, где им тесно и трудно, где страдания так непохожи на их страдания, пафос — на их пафос, юмор — на их юмор. Вы только подумайте о муках этих душ, которые могли бы вскрыться, и петь, и благоухать, если б они не были в плену у чужого языка, чужих вкусов, чужих эстетических требований, если бы условием их духовного бытия не было их национальное оскопление.
Еврейская молодежь — мечтательная, героическая, вдохновенная — осуждена на бесплодие, проклята каким-то утонченным, дьявольским проклятием. У Максима Белинского в «Отечественных записках» (1882 г.) была повесть «Искра Божья»[143], В ней Зильберман, еврей-народник, святой человек, уходит «в народ» — вместе с русской интеллигенцией и принимает всю чашу оскорблений, и пошлых намеков, и гнусного презрения со стороны тех, кому он отдал всю душу. Но эти оскорбления ничто перед внутренним чувством той проклятой оторванности, которая делает евреев — даровитейших и духовнейших людей — бесцветными, банальными, даже пошловатыми, ибо вырывает у них из рук тот матерьял, на котором они могли бы отпечатлеть свою личность…