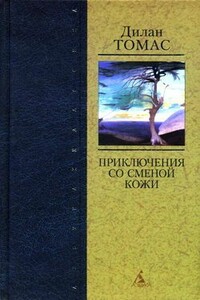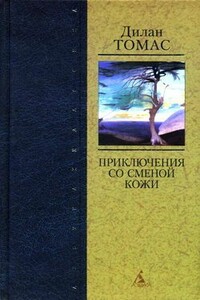Портрет художника в щенячестве | страница 10
Я сказал:
– Ничего я плохого не делал.
– Давай, давай исповедуйся, – сказал Гуилим. Он хмурился.
– Не могу! Не могу! – сказал я. – Ничего я плохого не делал.
– Исповедуйся!
– Не буду я! Не буду!
Джек заплакал. Сказал:
– Я хочу домой.
Гуилим открыл дверь часовни, и мы прошли за ним во двор, мимо черных, кособоких сараев, к дому, и Джек всю дорогу ревел.
Лежа вместе в постели, мы с Джеком исповедовались друг другу в грехах.
– Я тоже у матери из сумочки воровал. Там у нее фунтов этих!
– Сколько взял?
– Три пенни.
– А я один раз человека убил.
– Ври больше.
– Святой истинный крест. Я ему прямо в сердце стрельнул.
– А как его фамилия?
– Уильямс.
– Кровь текла?
Ручей плескался как будто о стены дома.
– Как из резаного поросенка, – сказал я.
У Джека высохли слезы.
– Не нравится мне твой Гуилим, он псих.
– Нет, не псих. Я у него в комнате как-то кучу стихов нашел. И все к девушкам. Он мне потом их показывал – так девчонок всех имена он на Бога переменил.
– Шибко верующий.
– Ничего не верующий, он с актрисами водится. С Корин Грифит знаком.
Мы оставили дверь открытой. Я люблю, когда дверь на ночь закрыта, по мне лучше привиденье увидеть, чем знать, что кто-то может войти к тебе в спальню; а Джек хотел, чтоб было открыто, и мы бросили монету, и выиграл он. Мы слышали, как громыхнула входная дверь и шаги протопали по коридору на кухню.
– Это дядя Джим.
– Он какой?
– Он – как лис, он ест поросят и цыплят.
Пол был тонкий, мы слышали каждый звук, скрип кресла неудалого барда, громыхание тарелок, голос Энни: «Ночь давно на дворе».
Я сказал:
– Он пьяный.
Мы затаились, надеясь услышать ссору.
Я сказал:
– Может, он тарелки швырять начнет.
Но Энни только тихонько журила его:
– Посмотрел бы ты на себя, Джим.
Он что-то ворчал.
– Одного поросенка не досчитались, – сказала Энни. – Ох, Джим, и как ты так можешь? У нас ничего уже нет, как нам теперь вывернуться?
– Деньги, деньги, деньги!
Я понял – он трубку зажег.
Тут голос у Энни стал такой тихий, что мы ни слова не могли разобрать, а дядя сказал:
– Дала она тебе эти тридцать шиллингов?
– Это они про твою мать, – сказал я Джеку.
Энни долго говорила что-то тихим голосом, и мы ловили слова. Она сказала «миссис Уильямс», и «автомобиль», и «Джек», и «персики». Она, по-моему, плакала, на последнем слове голос у нее дрогнул и оборвался. Снова скрипнуло кресло под дядей Джимом, – наверно, он стукнул по столу кулаком, и мы услышали, как он заорал:
– Я ей покажу персики. Персики, персики! Много о себе понимает! Персиками брезгует! К черту ее автомобиль, к черту сынка! В грязь нас втоптать хочет!