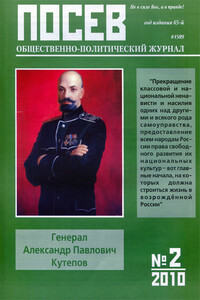Посев, 2010 № 01 (1588) | страница 42
Конечно, Кобрин был не одинок, в нашей группе вел семинары прославленный историк и честный человек Э.Н. Бурджалов, на которого грозно «цикнуло» или рыкнуло ЦК КПСС и разразилось особым постановлением в период Оттепели. Вели занятия и другие интересные лица, но почему, собственно, Кобрин – лучший из наших преподавателей? Почему именно ему удалось достичь образовательной цели? Почему другие такого не смогли? А ответ предельно прост и ответ – единственный: он был ученым!
Про него иной раз говаривали «коллеги по цеху», будто Кобрин «не создал научной школы», «не сумел стать «корифеем» или «узнаваемым медийным лицом», не был произведен в сановники политизированной исторической науки. Да он и не стремился им быть! Простительно ли не стать завкафом или деканом, допустимо ли не обзавестись обходительной секретаршей и сворой борзых референтов? «Не могу я быть Птолемеем, даже в Энгельсы не гожусь», как писал наш Галич. Ученому всей этой атрибутики не нужно, ибо интеллигент в референтах не нуждается.
Окуджава шутливо спел: «Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак – учить». Кобрин когда-то одним росчерком пера обрисовал наше ремесло:
«У историков не бывает хобби!»
У историков настолько интересное профессиональное занятие, именно оно составляет существо их деятельности, что на филателию, значки и грампластинки их не хватает. Почему мы его обожали? Он нам казался воплощением интеллигентского «неумения жить», что раньше точно именовалось донкихотством, когда роман в переводе Сервантеса еще читали некоторые школьники средних классов. В не филистерские времена было вовсе не стыдно подражать таким Донам Руматам. Народнический стиль шестидесятников некогда еще вовсе не считался предосудительным, у преподавателей не принято было «модничать»: вековые демократические традиции отечественной интеллигенции явно мешали.
Чуть выше среднего роста, он аккуратно выглядел в своем синем пиджаке, как и в светло-бежевом – выходном. У него забавно топорщился длинный воротничок рубашки, и галстук он завязывал каким-то слишком не тугим и неровным узлом, наверное, так и не смог выучиться этой премудрости. Зимой его перчатки часто бывали в обугленных дырочках: заговорившись с собеседником, он их прокуривал. Нацепив драповое пальто, он потом надевал в разноцветную клетку шарф, придерживая его подбородком, как сказал бы Набоков, по-русски. У нас совершался выбор: «Хочешь ли ты быть таким как он?» «Конечно, хочу». Тогда будь, если сможешь. Изредка доставая очки, чтобы что-то важное отыскать и прочитать, Кобрин неторопливо расхаживал по атриуму нашей «alma mater studiorum», огибая широкие колонны, раскланиваясь со знакомыми, добродушно шутил и скоро курил на переменах.