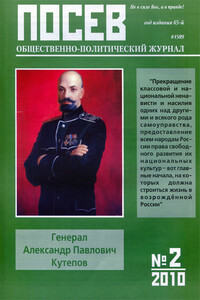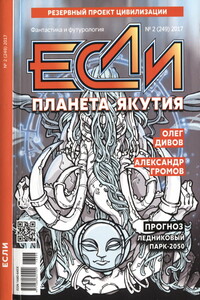. Однако рассуждения на тему Белой идеи бессмысленны без изучения менталитета ее носителей. Ныне опубликовано и, слава Богу, продолжает издаваться большое количество белогвардейских воспоминаний не только военачальников, но и рядовых офицеров (последняя фраза вовсе не является тавтологией, поскольку немало офицеров и даже некоторые генералы на Юге России служили на положении рядовых
>[2]). На страницах своих мемуаров они часто спорили друг с другом
>[3], по разному смотрели на многие военные и политические эпизоды Гражданской войны, но есть нечто, объединяющее большинство ветеранов Белой армии. Это их принадлежность к интеллигенции. Еще С.П. Мельгунов говорил о том, что Добровольческая армия “…была армия русской интеллигенции в широком смысле слова”
>[4]. Именно тысячи ее представителей в годы Первой мировой войны надели военный мундир, сменив на полях сражений выбитый кадровый состав армии. После революции военные интеллигенты стали основой и лидерами Белого движения. Верховного правителя Белой России адмирала А.В. Колчака мы помним и в качестве ученого-полярника, генерала Деникина – как талантливого писателя. М.В. Алексеев и С.Л. Марков до войны занимались преподавательской деятельностью и являлись профессорами, барон П.Н. Врангель получил образование горного инженера, генерал Л.Г. Корнилов владел несколькими восточными языками и был автором серьезного научного труда по Туркестану. Уже в изгнании в Русской Армии Врангеля интеллигенция играла преобладающую роль. В Галлиполи после исхода находилось 50% офицеров, а остальные 50% в огромном большинстве – солдаты из интеллигентов
>[5].
Что же представляла собой русская военная интеллигенция в эпоху Смуты? Ответ на этот вопрос позволит лучше понять как сущность Белой идеи, так и причины, побудившие лучшую часть офицерства поднять знамя борьбы с большевизмом. Разумеется, невозможно в рамках небольшой статьи раскрыть столь сложную тему, как идеалы белого офицерства. Скорее, в данном случае сделан шаг в области осмысления темы, вынесенной в заглавие статьи.
Русское офицерство. Воспитанное на идее служения, определенном кодексе чести и аскетизме>[6], оно отличалось непрактичностью и часто неумением устроить свой быт>[7]. В офицерстве причудливым образом сплелись героизм на полях сражений и свойственный предреволюционной интеллигенции внутренний разлад, отсутствие цельности. Это замечали и биографы белых вождей. Один из них, В.Г. Черкасов-Георгиевский, исследовавший жизненный и боевой путь генерала Деникина – типичнейшего военного интеллигента – нарисовал верный психологический портрет этого незаурядного человека. “В чем же был убежден Деникин своим происхождением, детством, молодостью? Да не оказалось цельности, единой системы координат. Это ведь мешанина, эклектика, когда человек церковно православен и – с “республиканским акцентом”, вирусно занесенным в наш мир “вольной” французской революцией. Признак таких “раздвоенных” людей – делать одно, воображать другое. Они импульсивны, и такова, например, знаменитая речь Деникина перед Керенским (на Совещании в Ставке 16 июля (по старому стилю) 1917 г. – авт