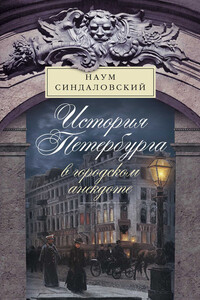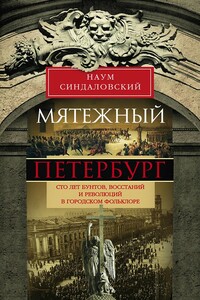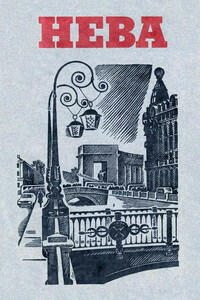Мифология Петербурга | страница 71
Дача Самборского находилась вблизи Царского Села, недалеко от Лицея по дороге в Павловск. На этой даче часто бывал и Малиновский, причем, имел обыкновение задерживаться на несколько дней и работать в одной из комнат гостеприимного дома. Видимо, поэтому народная традиция связала эту дачу с именем Малиновского. По давней легенде, именно ему, директору Лицея, разгневанный за что-то император отказал однажды в праве на строительство собственной дачи в обеих царских резиденциях – Павловске и Царском Селе. Тогда Малиновский, не решаясь ослушаться и в то же время желая досадить императору, выстроил особняк посреди дороги, на равном расстоянии от обоих царских дворцов. До войны эту дачу, известную в народе под именем Малиновки, хорошо знали ленинградцы. Двухэтажный каменный дом на подвалах действительно стоял посреди дороги, и серая лента шоссе из Пушкина в Павловск, раздваиваясь, обходила его с обеих сторон. Во время Великой Отечественной войны Малиновка была разрушена, и затем долгое время безжизненный остов старинной дачи замыкал перспективы одной и другой половины улицы Маяковского. В 1950-х годах развалины разобрали и на их месте разбили круглый сквер, который, не изменяя давней традиции, отмечает место бывшей дачи все так же посередине дороги.
Первоначальная программа обучения в Лицее, разработанная совместно M. М. Сперанским и В. Ф. Малиновским, предполагала два курса по три года каждый, с окончанием учебы к осени 1817 года. Однако мы знаем, что первый выпускной акт состоялся уже 9 июня 1817 года, а через два дня после этого лицеисты начали покидать Царское Село. Этой необъяснимой спешке, согласно распространенной легенде, способствовало следующее пикантное происшествие. Однажды юный Пушкин, который никогда не отказывал себе в удовольствии поволочиться за хорошенькими служанками, в темноте лицейского перехода наградил торопливым поцелуем вместо юной горничной престарелую фрейлину императрицы. Поднялся переполох. Дело дошло до императора. На следующий день царь лично явился к директору Лицея Энгельгардту с требованием объяснений. Энгельгардту удалось смягчить гнев государя, сказав, что он уже объявил Пушкину строгий выговор. Дело замяли. Однако говорили, что будто бы именно это происшествие ускорило выпуск первых лицеистов: царь решил, что хватит им учиться.
Первый, пушкинский, выпуск лицеистов оставил по себе символическую память: в лицейском садике, около церковной ограды, выпускники устроили из земли и дерна пьедестал, на котором укрепили мраморную доску со словами: «Genio loci», что значит «Гению (духу, покровителю) места». Этот своеобразный знак простоял до 1840 года, пока не осел и не разрушился. Тогда лицеисты, теперь уже одиннадцатого выпуска, решили его возродить. Восстановление пришлось на время, когда слава Пушкина гремела на всю Россию. Тогда-то и родилась легенда о памятнике Пушкину, воздвигнутом будто бы лицеистами первого выпуска.