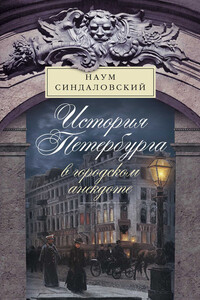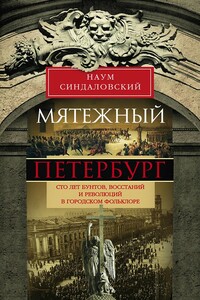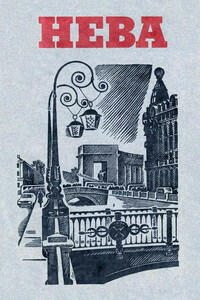Мифология Петербурга | страница 62
Далеко не все топонимы, бытовавшие в народе, дожили до наших дней. Одни из них не выдержали испытания временем и в борьбе за официальный статус уступили место более живучим вариантам. Другие исчезли вместе с объектом названия. Немногие сохранились, и ничего на самом деле уже не обозначая, остаются тем не менее уникальными свидетелями далекой петербургской истории. Так, например, заболоченные, богатые сочными травами козьи выпасы в Петербурге назывались «Козьими болотами». Этот старинный топоним был, очевидно, в свое время так распространен, что даже до нас дошли свидетельства о целых трех «Козьих болотах». Одно из них, наиболее известное, находилось в Коломне, в районе реки Пряжки, в самом конце Торговой улицы. Другое «Козье болото» располагалось рядом с Пушкарской слободой, там, где ныне проходят Большая и Малая Пушкарские улицы. Именно это болото вошло в мрачную петербургскую поговорку: «Венчали ту свадьбу на Козьем болоте, дружка да свашка – топорик да плашка». Вблизи этого «Козьего болота» находился первый в Петербурге так называемый Обжорный рынок, посреди которого на дощатом эшафоте вершили скорый царский суд петербургские палачи.
И, наконец, третье, известное из литературы «Козье болото» было вблизи современной улицы Костюшко в Московском районе.
К таким же, в значительной степени утратившим свою коммуникативную функцию топонимам, следует отнести «Мокруши» – постоянно затопляемый при малейших наводнениях район вокруг Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне.
В начале XVIII века обочины Боровой и Разъезжей улиц украшали высокие пни, оставшиеся от вырубленного при прокладке улиц леса. С тех пор этот район называли «Пеньками», или «Большими пеньками». А широко известный в современном Петербурге топоним Пески издавна принадлежит наиболее возвышенной, с сухим песчаным грунтом части города вокруг бывших Рождественских, ныне Советских улиц.
На первый взгляд, странное и не очень понятное имя получила в просторечии местность к юго-западу от Большого проспекта Васильевского острова. В старину ее называли «Чекушами». В XVIII веке здесь стояли склады, где хранилась мука. Однако из-за того, что территория эта постоянно подтапливалась даже при незначительных подъемах воды в Неве, мука подмокала и спрессовывалась. Ее разбивали и дробили специальными колотушками, которые называли – чекушами. Это название и перешло на местность.
В 1723 году московский Семеновский полк был передислоцирован в Петербург. Сначала он располагался на Петроградской стороне, но вскоре получил постоянное место пребывания вблизи Загородного проспекта на огромной территории от современного Московского проспекта до Звенигородской улицы. Вся эта местность была разделена на полковые дворы, которые впоследствии образовали улицы, названные по городам Московской губернии: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. Для запоминания такого однообразного ряда названий в Петербурге изобрели первое мнемоническое (от Мнемозины – богини памяти у древних греков) правило: «Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины». По первым буквам этой фразы легко вспомнить и название, и место расположения любой из улиц. Так вот, весь обширный район квартирования Семеновского полка петербуржцы окрестили «Семенцами», или «Сименцами». В литературе встречается и то, и другое написание. Нет уже Семеновского полка, Семеновский плац – место проведения солдатских учений и смотров – превратился в Пионерскую площадь с Театром юных зрителей, запершим перспективу Гороховой улицы, офицерские дома давно уже уступили место обывательским постройкам, а старинный фольклорный топоним до сих пор широко бытует среди петербуржцев.