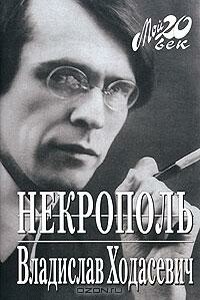Белый коридор | страница 58
Четверть века спустя, в 1918 году, довелось мне вновь стать за прилавок — в московской Книжной Лавке Писателей. Подробно о ней рассказывать не буду, потому, что на сей счет существует уже целая литература, страдающая, на мой взгляд, сильными преувеличениями в сторону «идейности». Судя по тому, что писалось о Книжной Лавке, можно подумать, будто это было какое-то необыкновенно возвышенное предприятие, ставившее себе единственно культурные цели, — чуть ли не луч света в темном царстве военного коммунизма. Не отрицаю, что кое-какую культурную роль лавка сыграла, но, разумеется, ее сознание определялось бытием, а не наоборот, то есть попросту говоря, возникла она потому, что писателям нужно было жить, а писать стало негде.
После этого торговал я еще два раза, но уже торговля моя носила характер эпизодический. В первый раз дело было так. В ноябре 1920 г., собираясь переселиться в Петербург, я обнаружил, что валенки у меня есть, а сапог нет, и что, следовательно, весной в Петербурге наступит кризис. Не надеясь на легкое разрешение его, постановил я обзавестись башмаками заблаговременно и с этою целью отправился к Луначарскому. Наркомпрос находился тогда в здании Лицея, у Крымского моста. В ту пору была война, и вся Москва покрыта была плакатами с надписью: «Не сдадимся, выдержим, победим». Такой плакат красовался и над дверью в кабинет Луначарского, отличаясь от прочих тем, что на нем слово «сдадимся» было написано через «з»: «не здадимся». Луначарский принял меня как нельзя более любезно и тотчас продиктовал машинистке записку, куда следовало, о том, что он просит оказать мне содействие в приобретении башмаков. В благодарность я вывел Луначарского из кабинета и обратил его внимание на плакат, который над дверью в кабинет министра народного просвещения имел вид уж очень компрометтантный. Луначарский всполошился, созвал секретарш и приказал плакат переделать, либо убрать. Мы простились.
На другой день я отправился на Мясницкую, в учреждение, ведавшее распределением обуви. Путешествовать туда с Девичьего Поля, где я жил, было не легко. Доплелся я до места измученный вдребезги — и узнал, что на моей записке недостает какой-то печати или еще чего-то. Пришлось опять идти к Луначарскому, опять часа два дежурить в его приемной — и опять часа два любоваться на тот же плакат, который остался совершенно таким же, как был прежде, только висел теперь не над дверью, а рядом с ней. Луначарский велел написать мне новую записку и я ушел, на сей раз уже ничего не сказав о плакате.