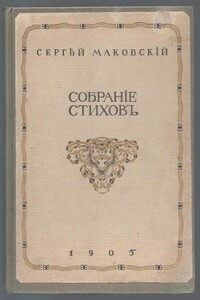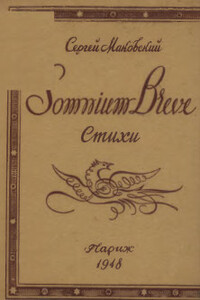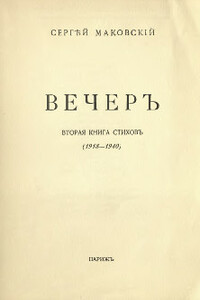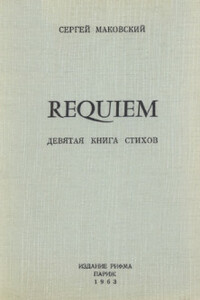Портреты современников | страница 58
Вот из каких токов, иногда и противоречивых, сгустился тот петербургский «романтический ветер» конца века, о котором я говорю, причем я упоминаю, конечно, лишь о самом главном или, точнее, о том, что казалось мне тогда самым главным. Поэзия еще не обернулась в те дни «магией», какой она стала для поэтов-символистов. Только-только вышел первый сборник Бальмонта «Под северным небом» (поэт вернулся из скандинавских фиордов, где «носилась чайка, серая чайка с печальными криками…»); «Стихи о Прекрасной Даме» изданы Блоком десятью годами позже, и уж за ними (кроме первой) прозвучали московские «Симфонии» Андрея Белого, который впоследствии в своих «Воспоминаниях о Блоке», так увлекательно рассказал об атмосфере нарождавшегося двадцатого столетия в связи с пророческими видениями Владимира Соловьева: «Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму и видела нечто подобное свету; мы все отдавались стихии грядущих годин, отдавались отчетливо слышанной в воздухе поступи нового века».
Но этот «шум» и «свет» в годы моего «Рауха» еще только претворялись в рифмованные строки юных декадентов, как называла большая публика всех писателей и художников-новаторов без разбора, — после того как Валерий Брюсов пролепетал свой коротенький «Chef-d'Oeuvre» — название сборника стихов, над которым так потешался Владимир Соловьев (его пародии на декадентов, печатавшиеся чуть ли не в «Вестнике Европы», вызывали дружный отклик не в одних литературных кругах). Ранние стихи Мережковского, Минского, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, были тоже только «слишком ранние предтечи слишком медленной весны». Эти строчки Мережковского цитировались часто.
Романтический воздух накануне символизма был пропитан и музыкой… Кажется, не было в то время города более музыкального чем Петербург (отчасти и Москва, благодаря Мамонтову и его опере с 95 года). «Могучая кучка» получила, наконец, права гражданства. В Мариинском театре вырос русский репертуар. С легкой руки Антона Рубинштейна и затем графа Шереметева и Зилоти создались отличные симфонические оркестры. Все европейские виртуозы считали долгом посетить северную столицу. Наше запоздалое вагнерианство также относится к девяностым годам: «за» и «против» Вагнера стало нескончаемой темой русских споров.
Как я рассказал уже в предыдущем очерке, для меня музыка, рядом с живописью, была родной стихией с детства.
Жена скрипача Л. С. Ауэра, Надежда Евгеньевна, рожденная Пеликан, дружила с моей матерью; со старшими дочерьми Ауэр, Зоей и Надей, ровесницами мне и моей сестре, мы, что называется, росли вместе.