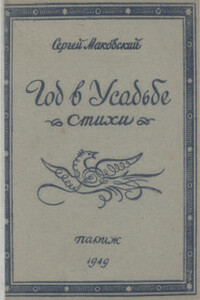Портреты современников | страница 33
Однако, нельзя долго стоять на ветру, идем по Конногвардейскому бульвару за Адмиралтейство, к главному его входу. Всюду по пути водосточные трубы с длинными ледяными сосульками внезапно рушатся, разбиваясь вдребезги со звоном, как хрусталь, и зеленые кадки не вмещают уже влаги, она плещет через край. На углах рвет ветер. Идем вдоль зимнего Александровского Сада… Под аркой Адмиралтейства сразу тихо становится и от пережитых волнений, и от замкнутости окружающих зданий. Внутренний двор с прямыми дорожками вдоль строений — вместе с задворками домов вдоль набережной и следами прежних засыпанных каналов — таил загадки, неразрешимые для нас вопросы. Была тоска в этих тупиках, тихая скука; по-особенному булькала вода в кадках; было пустынно-холодно и непонятно.
Много позже я узнала: всё это место прежде занимала верфь, шел стук, строительный грохот с давних петровских времен. По каналам входили с моря и Невы прямо в Адмиралтейство баржи с лесом, бочками, канатами, дегтем, снастями, со всем нужным для верфи. Потом при Екатерине всю площадь засадили деревьями и бывали там, вплоть до времен Александра II (отец мог их видеть) гулянья с чудесным видом на Неву, а со второй галереи Адмиралтейства неслась роговая музыка: какая красочная нота в жизни столицы! Позднее из-за выгоды позволили отцы города застроить доходными домами всю набережную между павильонами, загородив невский фасад Адмиралтейства, исключительный по красоте, испортив и обессмыслив это творение Захарова, кусок подлинного старого Санкт-Питербурха. И живя в одном из этих новых домов, помню еще в юности, мы чувствовали какую-то тень причастности к этой вине…
Рано опускались сумерки, зимние ночи петербургские длились долго. Прильнув к стеклу, мы всматривались из залы, как загорались один за другим фонари вдоль Невы и едва видные огоньки в домах на Васильевском острове. В детскую приносилась лампа, мы устраивались с братом за большим столом, рисовали, подкрашивали, вырезали целые баталии с рыцарями и викингами, французские королевские охоты, верховых со сворами борзых и дующих в рог загонщиков и передвигали их по нашему дубовому боярскому столу…
«J’aime le son du cor le soir au fond des bois…»[4].
Портретная галерея
Я подошел к самому блестящему, в смысле всероссийской популярности, периоду в жизни Константина Егоровича, когда его репутацию несравненного портретиста затмила слава исторического живописца. Всеобъемлющим стало его искусство, из него выработался эклектик, с налетом дилетанта, не признающего никаких самоограничений. Помимо портретов, он брался за всё, его эстетическому разумению так же близка была деревенская природа, как пышно скомпанованный натюрморт à la Makart или полюбившийся ему драматический образ, или историческая быль, или прелесть женской наготы. Он отдал дань всем родам живописи, с тою же легкостью разрешал любое задание и, к сожалению, почти всегда с одинаковой приблизительностью. Таков его вкус — ничего не поделаешь! Но талант всюду бьет ключом. Очень русская черта, и понимать это надо в связи с невыработанностью всей нашей художественной культуры… Отца одинаково увлекали пейзажи, жанровые сцены, узорная московская Русь, декоративные аллегории, иллюстрации к литературной героике, наконец — всевозможные нарядные импровизации, вплоть до ширм роккоко и золоченых chaises-à-porteurs с гирляндами амуров. Вряд ли какой-нибудь художник обладал более широким диапазоном. Неудивительно, что во всех этих областях он поддался искушению скороспелого, поверхностного размаха, не успевая продумывать деталей и сосредоточиться на избранной задаче.