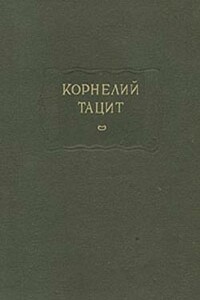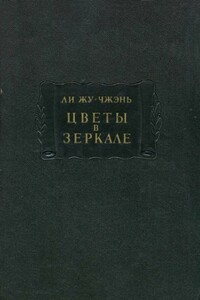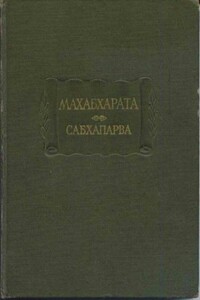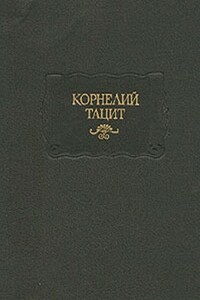Пестрые рассказы | страница 106
Памфлет «Гиннид» не стоит в творчестве Элиана особняком. В «Пестрых рассказах» автор неоднократно возвращается к осуждению тирании и охотно заявляет о своей республиканской независимости по отношению к властителям (I, 25; II, 20; III, 21; VI, 12, 13; VII, 12, 17; XI, 4; XII, 6; XIV, 11). Отрицательное отношение к тирану — одна из дежурных риторических тем, но некоторые рассказы Элиана позволяют предполагать, что автор выходил за рамки ни к чему не обязывающей риторической абстракции, стремясь создать вполне определенные политические аллюзии: за личиной греческого тирана для всех очевидно скрывался римский император. В плане таких исторических намеков читается, например, рассказ о тиране Тризе, который в страхе перед заговорами запретил подданным разговаривать, затем — объясняться жестами и, в конце концов, даже плакать, за что поплатился жизнью (XIV, 22), или следующая заметка: «Вот фригийский рассказ, он принадлежит фригийцу Эзопу. В этом рассказе говорится, что если тронуть свинью, она, естественно, начинает визжать. У свиньи ведь нету ни шерсти, ни молока, нет ничего, кроме мяса. При прикосновении она сейчас же угадывает грозящую ей опасность, зная, на что годится людям. Так же ведут себя тираны: они вечно исполнены подозрений и всего страшатся, ибо знают, что, подобно свинье, любому должны отдать свою жизнь» (X, 5). Оба эти рассказа принадлежат к самым острым во всей книге; в них нарисована картина современного автору Рима со всеми деталями, вплоть до печального конца тиранов: ведь, кроме Элагабала, насильственной смертью умерли из числа тех императоров, на которых может распространяться это определение, также Коммод и Каракалла. Поэтому Элиан прибегает к тщательной маскировке: Триз — фигура вымышленная, ни с чем реальным не связанная, нарочито бесплотная, а фригийский рассказ обезврежен своей приуроченностью к иным условиям места и времени, и только ссылка на Эзопа служит намеком умеющему читать между строк. Порицая тиранический произвол, Элиан не был, однако, противником единовластия, если правление находилось в руках справедливого и достойного человека (III, 26; VI, 11), и, подобно стоикам, считал, что во главе государства должен стоять мудрец (III, 17; VII, 14, 21), наделенный, вдобавок к мудрости, мягкостью, справедливостью, простотой и непритязательностью, военными дарованиями, умеренностью, высоким строем души, готовностью прислушаться к чужому мнению (II, 20, 22; III, 16; V, 5; VII, 14; VIII, 15; XII, 49, 62).