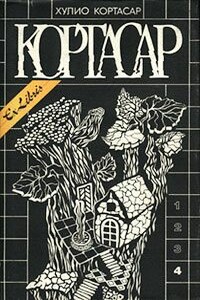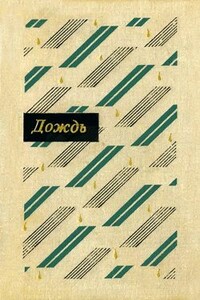Вокруг дня за восемьдесят миров | страница 23
Перевод А. Кофмана
О чувстве фантастического
Сегодня утром Теодор В. Адорно показал нам еще одно кошачье свойство: посредине своей страстной речи — этакая смесь жалобных воплей и упорного нежелания отцепиться от моих брюк — он вдруг замер и точно завороженный уставился в пространство, где я ничего не углядел, за исключением висевшей на стене клетки с Епископом из Эврё, которая прежде никогда не вызывала интереса у Теодора. Любая английская дама не преминула бы сказать, что кот увидел утреннее привидение, а они-то и есть самые настоящие, и коль скоро Теодор, поначалу словно приросший к земле, стал медленно поворачивать голову в правую сторону, пока глаза его не уперлись в дверь, это, вне всякого сомнения, означало, что призрак убрался восвояси — ему небось стало не по себе от такого сверлящего взгляда.
Как это ни странно, но у меня не было той природной склонности к фантастическому, с какой рождаются некоторые люди, хотя потом они и не пишут никаких фантастических рассказов. В детстве я был более чувствителен к чудесному, нежели к фантастическому (о разнице между двумя этими понятиями, которые всегда путают, лучше всего справиться у Роже Кайуа), и полагал вместе со всеми моими домашними, что окружавшая меня действительность — кроме любимых сказок — является нам каждое утро с неукоснительной пунктуальностью и в том же порядке, как разделы и рубрики в газете «Пренса». То, что без паровоза вагоны не сдвинутся с места, принималось как непреложная, успокаивающая истина, которую всякий раз подтверждали наши поездки из Банфилда в Буэнос-Айрес. Однажды утром, впервые увидев электропоезд, я решил, что от вагонов оторвали паровоз, и ударился в рев; по рассказам тети Энрикеты, понадобилось чуть ли не полкило мороженого, чтобы меня успокоить. (В ту пору я был жутким реалистом, и вот тому еще одно доказательство: когда тетя Энрикета выходила со мной погулять, мы чуть не каждый раз находили на улице несколько монет, но, признаюсь, монетки я крал дома и, как только тетя прилипала к очередной витрине, ловко подбрасывал их, а потом с радостным криком подбирал чудесную находку и, само собой, незамедлительно «на законном основании» требовал купить конфет. Моей тетке, вот кому было присуще чувство фантастического — ну хоть бы раз удивилась: с чего, мол, это повторяется без конца, так нет, она всегда разделяла мои шумные восторги, к тому же сама была не прочь угоститься конфеткой.)
Я уже упоминал о том, как меня возмутил однажды мой одноклассник, посчитавший слишком фантастической историю Вильгельма Шторица, в правдивости которой сам я не усомнился ни на минуту. Теперь мне понятно, что я совершал в те годы достаточно сложную мыслительную инверсию: то есть загонял фантастическое в реальное, обращал в реальное. Задачу во многом облегчало мое трепетное отношение к книге. Можно ли