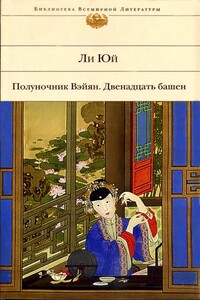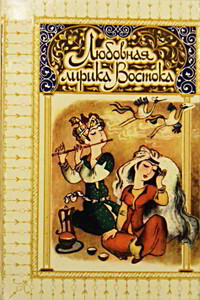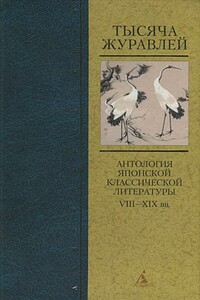Китайская военная стратегия | страница 43
И вновь мы встречаем у Сунь-цзы видимый парадокс: сверхзнание беспредметной матрицы, чистой структуры человеческой практики опознается мудрым стратегом посредством скрупулезного и трезвого анализа наличной обстановки. Подлинная опора мудрости – ученически-скромная тщательность суждений. Сунь-цзы живет не мечтами о военном триумфе, а неприметными буднями войны. Он – самый преданный и скромный поклонник военного ремесла. Стратегия для него – неотъемлемая часть жизни и даже, может быть, самая важная ее часть, ее подлинная сущность. Такова природа традиционного знания, одновременно житейски-банального и сверхчеловеческого. И, говоря шире, нельзя не подчеркнуть еще раз, что стратегическое мышление вполне органично всей китайской традиции и что, несмотря на конфуцианский культ морального воздействия и нелюбовь к войне даосских мудрецов, невозможно представить китайскую культуру и национальный характер китайцев без идеи стратегического действия. Более того, есть основания утверждать, что именно в Китае стратегический подход к жизни получил подлинное признание и обоснование и что с китайской точки зрения классические европейские концепции войны, трактующие войну как открытое противоборство сил, которое имеет целью уничтожение противника, почти лишены собственно стратегического содержания, ведь в этих концепциях даже не ставится вопрос о стратегическом действии как взаимо-действии в рамках целого.
Хорошо известно, что в жизненном укладе китайцев ритуал, всякие «китайские церемонии» имели огромное, в известном смысле даже первостепенное значение. Но дело здесь не в некоей врожденной церемонности. «Ритуал» в Китае был чем-то несравненно большим, нежели правила этикета и вообще те или иные нормы поведения. Для жителей Поднебесной он был самым полным и точным образом всеобщего порядка вещей, зримым воплощением – в Китае говорили «телом» – человеческой природы, «сердечного разумения» человека. Весь сотканный из намеков и знаков, понятных лишь посвященным, из отчужденных «следов» опыта духовного бдения, он был воистину оттиском сокровища сердца. Посмотрим, какие следствия вытекают из этого тезиса.
Что такое ритуал? Прежде и превыше всего – действие, нечто символизирующее и потому в пределе своем – символическое, лишь символически выражаемое. Вовсе не обязательно конкретное, предметное действие: символическая реальность по определению отсутствует в наличном, хотя и не существует отдельно от него. Если говорить точнее, в ритуале воображаемое и действительное друг друга проницают, не подменяя друг друга, и поэтому символическую реальность нужно понимать в конечном счете как (потенциально) бесконечную перспективу взаимоотражения, взаимной подстановки присутствующего и отсутствующего, данного и не-данного, где первичным является все-таки отсутствующее и не-данное или, лучше сказать,