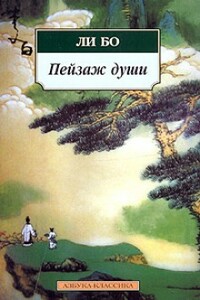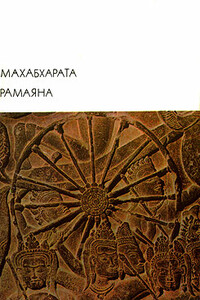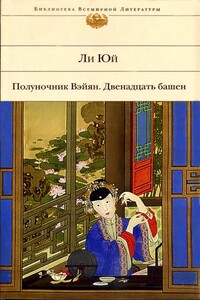Китайская военная стратегия | страница 39
Было бы, впрочем, большой ошибкой думать, что Сунь-цзы, как «человек действия», интересуется только техническими средствами, а не «истинно сущим». Он не создал бы канона, если бы, подобно всем великим учителям Китая, не искал точку соединения того и другого. В военных действиях, разнообразных «формах» войны он ищет матрицу высшей реальности. Возвращая читателя к конкретной и текучей природе существования, или, лучше сказать, к самоочевидности чистой практики, книга Сунь-цзы учит понимать, что такое действие сущего и, следовательно, действие истинное, а значит, всегда своевременное. Без ложной скромности ее автор утверждает, что может научить каждого, как победить в любом противоборстве.
Дух есть быт: вот истина, о которой возвещает всякий канон, достойный своего названия. Того, кто сделал свою жизнь оттиском духовного ведения и потому всегда поступает правильно, принято называть мудрецом. Быть мудрым – значит не отделять слова от дела, не отрывать мысль от существования. Мудрость – это плод человеческой жизни, который, в отличие от отвлеченного рассудочного знания, растет и вызревает во времени. Мудрость есть знание уникальных и потому непреходящих качеств момента. Только мудрое слово может быть словом каноническим, ибо оно выявляет вечносущее в его конкретности или, говоря словами Вэй Юаня, «неизменность перемен». Неумирающее в переменах и есть то, что воистину действенно во всех действиях.
Мы должны сделать следующий шаг и сказать, что каноническое слово – это не просто слово-дело, но слово-действенность, слово-событие. Это слово, которое, преодолевая самое себя, ставя себе свой собственный предел, кристаллизуется в афоризмах и сентенциях, из коих и состоят главные китайские каноны: «Книга Перемен», «Беседы и суждения» Конфуция, «Книга о Пути и Совершенстве» Лао-цзы. Афоризм – это язык предельности существования;[9] он сам себе устанавливает границу (о чем и напоминает этимология этого греческого слова), увлекает речь в бездну безмолвия и потому хранит в себе неизреченный смысл, предваряющий всякую речь. Афоризм свидетельствует о том, что каждое слово – лишнее; он возвращает к общепонятному, но отнюдь не общеизвестному, ибо известны только словесные истины, чистая же практика жизни никому не известна, но интимно внятна всем. Речь идет о языке, который предъявляет читателю, повторим еще раз, событие, а предел всякого события – это сама со-бытийность вещей, совместность различных моментов существования.