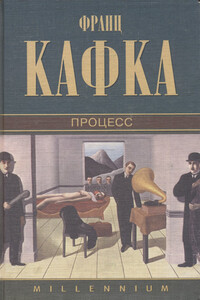Письма к Максу Броду | страница 7
Построенные по принципу сновидений картины Кафки переполнены ужасами: тут постоянно кого-то преследуют, кому-то угрожают, измываются, калечат, пытают друг друга, колют, режут, сжигают в печи. Однако все эти картины далеки от натурализма массовой литературы — и тем самым от «эстетики безобразного», укоренившейся в модернизме и особенно постмодернизме. В своем словесном явлении тексты Кафки по-своему совершенны и поэтому — по древнему принципу «катарсиса» — достигают преображения уродливой правды в прекрасные формы, дарующие читателю избавительное «облегчение» (а в этом и есть смысл древнегреческого «катарсиса»). Особое совершенство созданий Кафки в том, что они воздействуют не только на разум или доступные расхожим психологическим штудиям чувства, но и на какое-то неведомое или давно забытое тайновидческое чутье, глубоко зарытое в каждой, пусть и наисовременнейшей душе.
Как и всякое состоявшееся художество, проза Кафки представляет собой тончайшим образом устроенный универсум, в котором есть все — от «праздного» волшебства музыкально согласованных словесных сочетаний до житейски полезных поучений, от «ума холодных наблюдений» до «сердца горестных замет». И все же доминанта этого мира — та особая, по-сновидчески завораживающая магия, в которой очертания знакомого мира предстают иными, смещенными, непривычными. В этих смещениях и «остранениях» обещаны новые, неведомые смыслы реальности. И, как уже говорилось, они-то и усиливают общий эффект сбывшихся предсказаний.
Самый поразительный эффект художественного письма Кафки в том, что все его чудовищные гротески написаны простым и ясным, безмятежным по ритму, «объективно» регистрирующим, «протокольным» слогом. Чудища словно бы заключены в стеклянные сосуды, как в некоей словесной кунсткамере. К тому же от большинства из них остались только обрубки, только фрагменты.
Все это относится, кстати говоря, не только к его художественной прозе, но и к дневникам и письмам, которые практически не вычленяемы из общего литературного наследия Кафки. В конце концов, и вся литература, как заметил однажды сам писатель, есть не что иное, как «дневник нации». И все же редко у кого все эти жанры достигают такого единства: проза, дневники, письма Кафки — как единый поток, который несет этого человека по жизни, поддерживая его до поры до времени на плаву. Недаром сам Кафка писал, что он весь состоит из литературы.
Есть у него и другая крылатая автохарактеристика: «Страх — основа моего существования». Страх, самоспасающийся письмом; письмо, преисполненное страха. Разросшийся, клубящийся, насыщаемый упорной иудаистской памятью страх, вобравшее в себя каббалистические и талмудические бездны письмо. Кафка много размышлял о своем еврействе, ни у кого из писателей (кроме разве его венского ровесника Отто Вейнингера) мы не найдем такого национального самообнажения. Он то ненавидел свой «иудейский страх» и готов был проклинать все еврейское, то восхищался мудростью и жизненной цепкостью праотцев и склонялся к сионизму, который основал другой его ровесник и единоплеменник Теодор Герцль.