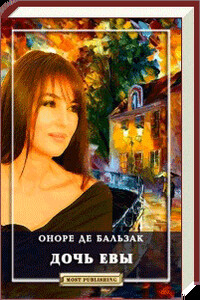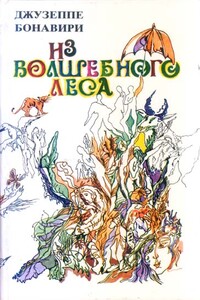Кузен Понс | страница 107
Приемная, где ожидали пациенты, была обставлена еще покойным г-ном Пуленом, согласно его мещанскому вкусу: неизменный диван красного дерева, обитый желтым в цветочек плюшем, четыре кресла, полдюжины стульев, подзеркальный и чайный столики. Часы, с которых не снимался стеклянный колпак, изображали лиру и стояли между двумя египетскими канделябрами. Оставалось загадкой, как могли выдержать такой долгий срок коленкоровые занавески мануфактуры Жуи, желтые с набивными красными розочками. Оберкампф в 1809 году получил за эту ужасающую продукцию хлопчатобумажной мануфактуры благодарность от самого императора. Кабинет доктора был обставлен в том же вкусе мебелью из спальни его отца, — скупо, бедно и холодно. Какой больной может поверить в искусство врача, если у него нет не только имени, но и обстановки, особенно в наше время, когда Вывеска — это все, когда золотят фонари на площади Согласия, дабы утешить бедняка, убедив его в том, что он богатый гражданин.
Передняя была одновременно и столовой. Там же работала служанка, когда она не была занята на кухне или не помогала матери доктора. Пристойная бедность чувствовалась сразу же, как только вы переступали порог этой невеселой квартиры, почти полдня пустовавшей, — достаточно было взглянуть на жалкие желтенькие кисейные занавесочки на окне передней, выходившем во двор. В буфете, несомненно, хранились остатки черствого пирога, тарелки с отбитыми краешками, вековечные пробки, салфетки, не сменявшиеся целую неделю, — словом, вполне объяснимый при скудных средствах всякий унизительный хлам, которому прямая дорога в корзину старьевщика. Понятно, что в такое время, как наше, когда в глубине души каждый думает о наживе, когда разговоры о деньгах не сходят с языка, доктор, у матери которого не было никаких знакомств, оставался холостяком, хотя ему уже стукнуло тридцать лет. За десять лет ему ни разу не представилось случая завести роман в тех домах, куда он был вхож благодаря своей профессии, ибо обычно он лечил людей примерно одного с ним достатка; он бывал только в семьях, живших вроде него, — у мелких чиновников или мелких фабрикантов. Самыми богатыми его пациентами были соседние мясники, булочники, крупные лавочники, все люди, приписывающие свое выздоровление крепкому организму и считающие, что доктору, который ходит по больным пешком, двух франков за визит и за глаза хватит. В медицине кабриолет важнее знаний.
Обыденная серенькая жизнь в конце концов засасывает даже самых предприимчивых людей. Человек примиряется с судьбой и удовлетворяется незавидным существованием. И доктор Пулен, практиковавший уже десять лет, тянул все ту же лямку, не впадая в отчаяние, первое время омрачавшее его жизнь. Но так или иначе, он лелеял некую мечту, ибо в Париже каждый лелеет какую-нибудь мечту. У Ремонанка была своя мечта, у тетки Сибо — своя. Доктор Пулен надеялся, что его позовут к богатому и влиятельному пациенту, которого он обязательно вылечит, а затем при его содействии получит место старшего врача в больнице, при тюремном управлении, при театре или при министерстве. Он, впрочем, уже получил таким путем место врача при мэрии. Через тетку Сибо он был приглашен к г-ну Пильеро, владельцу того дома, где они с мужем служили привратниками; доктор Пулен пользовал его во время болезни и поставил на ноги. Г-н Пильеро, приходившийся по матери дядей графине Попино, жене министра, принял участие в молодом человеке, скрытую нужду которого понял, нанеся ему на дому благодарственный визит. Он-то и исходатайствовал у министра, своего внучатого племянника, очень его уважавшего, то место, которое доктор занимал вот уже пять лет; скудное жалованье пришлось очень кстати: оно удержало доктора от решительного шага — он уже собрался было эмигрировать. Для француза покинуть Францию равносильно смерти. Доктор Пулен побывал у графа Попино, чтобы выразить свою благодарность; но он понял, что через эту семью карьеры не сделаешь, ибо министра пользовал знаменитый Бьяншон. Бедный доктор некоторое время обольщал себя ложной надеждой приобрести покровительство одного из влиятельнейших министров, вытащить одну из тех двенадцати или пятнадцати карт, которые вот уже шестнадцать лет тасует за столом Государственного совета могущественная, но невидимая рука; однако он так никуда и не выбрался из своего захудалого квартала, где по-прежнему возился с бедняками и мелкими лавочниками, и сверх того за жалованье в тысячу двести франков в год обязан был констатировать факты смерти.