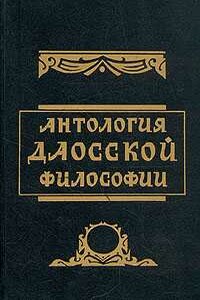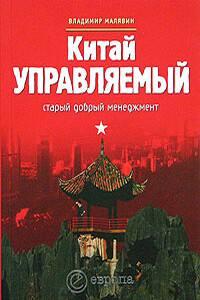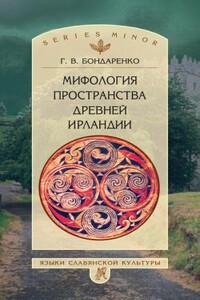Чжуан-цзы | страница 28
Несомненно, в преданиях о Симэнь Бао и Ли Бине запечатлена универсальная тема в истории человеческой культуры. Эти китайские чиновники, поселившиеся в храмах покоренных ими локальных божеств, стоят в одном ряду с победителем змея Пифона и хозяином Дельфийского святилища Аполлоном и аналогичными героями в мифологиях многих других народов. Но в Китае очень рано, по крайней мере с момента появления письменной традиции, миф подвергся переработке в историческое и морализаторское повествование. С легкой руки дворцовых писцов, создателей китайских канонов, древние боги превратились в добродетельных мужей – правителей, сановников, отшельников и прочих исторических персонажей.
Эта пластическая операция, ставшая возможной благодаря уникальной в своем роде преемственности между идеями родового тела и государства в Китае, была проделана столь решительно и прошла настолько незаметно для современников той эпохи, что в нашем веке исторической критике пришлось приложить немало усилий, чтобы ее распознать.
Так в имперской традиции архаический миф был радикально преодолен и разрушен, но древнекитайская деспотия не создала принципиально новой формы религиозного мировоззрения. Нельзя не поражаться странной двойственности цивилизации императорского Китая: при. наличии резкого разрыва с мифологией, почти без остатка вытесненной историческим – точнее, квазиисторическим – сознанием, а также индивидуалистических тенденций в культуре, чисто профанной теории государства, высокой степени рационализации государственного устройства, развитой научной и технической мысли эта цивилизация унаследовала фундаментальные черты архаического сознания: родовой концепт социума и власти (государство сводилось к «телу династии»), мифологему мирового тела, сакрализацию космоса, соединение религии и технологии в нео-магии мистического соучастия мировому процессу. Ибо нельзя понять идеологию китайской империи, не увидев в ней перевод первобытной священной магии на язык морализаторской космологии.
Подчеркнем, что склонность древних китайцев к историзации повествования отнюдь не означала пристрастия к истории в ее принятом греческом понимании, т. е. как прошлого, которое еще сохраняется в памяти людей. Скорее наоборот: их мысль устремлялась к тому, что прочно забыто и что, может быть, навеки останется сокрытым пологом тайны, – к неизъяснимо блаженным временам «Великого единства», «Всепроницающей целостности» древности. История по-китайски, как «древность-современность» (гу-цзинь), оказывается утопией, полемической оппозицией и парадигмой настоящего, проекцией экзистенциальных разрывов, выражением устремленности и побуждения к действию, т. е., в сущности, не чем иным, как мифом в исторических одеждах. Историческое сознание китайцев не порвало с мифом вечного возвращения и тем самым – с мифологическим сознанием вообще.