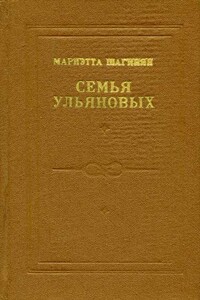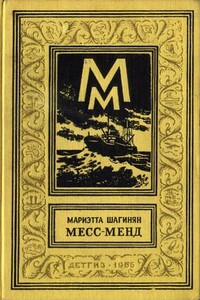Четыре урока у Ленина | страница 93
В Болонье, например, несколько лет назад я работала в музыкальном архиве Коммунальной библиотеки на площади Россини, а жила возле вокзала. Каждый день я ходила по одному и тому же маршруту, мимо тех же памятников, магазинов, киосков; забирала газету у той же стойки, того же продавца; обедала в той же столовой и все там же покупала себе неизменную югурту и пиццу на ужин — ясное дело, город замыкался для меня в небольшой круг и возникало не совсем приятное чувство своей «видимости» для окружающих. Вы встречали все тех же прохожих, и даже собаки, которых прогуливали хозяева, были все те же, на тех же улицах. Но если прохожие, продавцы, приказчики, пёсики сделались вам знакомы — себя вы тоже невольно ощущаете привычной и знакомой для них фигурой. И город кажется как дом, улицы как комнаты, и весь мир, вся планета-земля, кажутся, в сущности, очень тесными.
Закрыв сейчас глаза, отчетливо вижу длинную улицу Индепенденца, идущую, как и все улицы Болоньи, сплошным крытым портиком; подземный туннель-соттопассаджо, из которого выходишь на все четыре стороны: направо на улицу Уго Басси, где можно так вкусно пообедать в знаменитой «сельфсёрвис», — блюдом, которое тут, в Болонье, называют «тортеллини», в Турине «каполетти», в Венеции «равиоли», а у нас, по всему Советскому Союзу, — ушками, пельменями, колдунами, береками; выйдешь прямо — к гиганту Нептуну, попирающему фонтан; налево — на короткую улицу Виа Риззоли, а за ней к университету, к театру и к уединенной красоте дворца, где ютится архив имени Падре Мартини с узеньким читальным залом. Я, конечно, могла бы вдвое сократить этот путь, занимающий в целом двадцать минут, если б боковыми уличками без тротуаров пошла по диагонали от своей гостиницы. Но не было охоты сокращать. Вниманье цеплялось за каждую знакомую встречу, — помню в соттопассаджо лица бродячих музыкантов, пиликавших какой-то невозможный джазоподобный «модерн»; филателистский магазин марок, хозяин которого именовался по-русски и странным образом Марковым; — и живших в тот месяц, буквально живших в каменных проходах туннеля, лежа и сидя на своем ярком тряпье, цыган. А главное — мне каждое утро хотелось, пройдя по Виа Риззоли, сказать свое buona matina[115] двум болонским красоткам, башням Азинелли и Гаризенда, тоже как будто вам кланявшимся в своей удивительной архитектурной кривизне.
Каждый город, как человек, имеет свой характер. Еще в самый первый приезд сюда я купила у букиниста, под портиками университета, гравюру старой Болоньи семнадцатого века. Если б не тускло-кирпичный колорит самого города, не его равнинность и не ломко-песочная краска старости самой гравюры, я приняла бы Болонью за горную Сванетию. Ни в одном итальянском городе, да и нигде в мире не было ничего подобного! Старинная Болонья вся, как еж, ощетинилась в небо сотнями тонких игл-башен. Будто толпа трубачей трубила, задрав их кверху, множеством дудок-труб. Будто огромная масса молящихся воздела к богу свои худые, длинные руки. Думаешь, — ну и город, ну и характер, — возвышенно живет, возвышенно думает. А этот же самый город в то же самое время спрятал своих жителей от неба, как ни один другой город в мире. Все его улицы, круглым счетом все, — это крытые переходы, идущие бесконечными рядами портиков, поддерживаемых колоннами. Для пешеходов — ни дождя, ни снега, ни солнца, ни неба, ни зонтиков, ни плащей, — нынешние плащи-болоньи это принципиальный дождевик, лишенный капюшона, его заменяет пелеринка. Не нужен капюшон в Болонье!