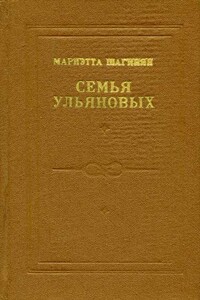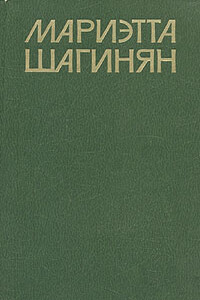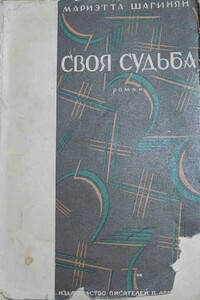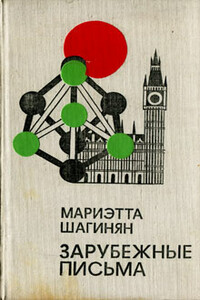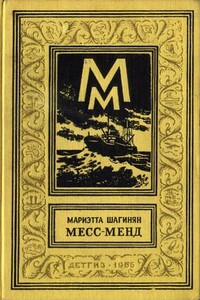Четыре урока у Ленина | страница 32
Это так неожиданно-прекрасно по своей четкости и неправдоподобию, что описать невозможно. Ни единой полутени, все графично, вычерчено, как рейсфедером, на эмалевой голубизне неба, на зеленоватой синеве океана. Машина уже ехала по мокрой дамбе, почти вровень с тихой водой. И вот мы внизу, на каменной площади, откуда начинается «восход» к монастырю-крепости, тысяча ступеней в стенах с бойницами, с площадками, овеваемыми ветром. Соленый ветер рвет волосы…
Впрочем, все это было еще впереди, а внизу, на первой узкой уличке острова, мы попали в ярмарочную слободу, точь-в-точь такую, какая в царское время окружала Троице-Сергиевскую лавру. Справа и слева шли лавчонки, прилавки, витрины с кучей всяких сувениров, петушков-шантеклеров, фигурок, картинок, ковров, значков, деревянной резьбы, нормандской керамики. Эта знаменитая сине-белая керамика на самом деле прекрасна, но ее кружки, кувшинчики, тарелки пестрели надписями, а надписи поразили нас — в этом культовом месте — своей крепкой похабщиной. Тут был французский площадной хохот, хохот Рабле. Самую скромную из этих надписей под женским круглым, как барабан, лицом — «Elle fait la musique sur son dot», — во всей ее двусмысленности я не решилась бы перевести для читателя на русский язык. Мы зашли в исторический музейчик Мон-Сен-Мишель — он мог бы рассказать нам интереснейшие вещи, мог бы опять напомнить о Жанне д'Арк, для которой «глас божий» олицетворен был «святым Михаилом» этого самого монастыря. Мог бы поведать о монастырском предателе, аббате Жоливé (в каждой исторической трагедии, как в «Отелло», непременно есть свой Яго!), не только продавшем монастырь англичанам в самый разгар войны, но и принявшем потом участие в сожжении Жанны. Мог бы… но ничего этого мы не услышали. Сторож-гид ждал со скукой, пока мы не наберемся группой, а это по малолюдью длилось долго, а потом тащил нас по темным комнатам, жалея зажигать свет, и едва плел что-то вполголоса.
Мы вышли оттуда с другого хода, так и не разобрав ничего, но зато сразу попали на блинный запах. Национальное нормандское блюдо, сладкие блины «crepe», пеклось прямо снаружи, на горячих сковородках. И вдруг в углублении над дверью я увидела нечто, заставившее меня забыть и музей, и керамику, и весь остров. Там была вывеска. На вывеске стояло: ресторан «Мать-пулярка» — пулярка, то есть упитанная курочка, курочка первый сорт, какую продавали в Москве, на Охотном рынке, до революции кухаркам богатых хозяев. Но дверь в ресторан оказалась наглухо запертой. Мы стали расспрашивать: «Где хозяева?» — «Они уехали на зиму». — «Можно их адрес?» — «Не известен их адрес…» Ресторан упирался в скалу, другого хода в него не было. Он был заперт, заперт безнадежно, и с ним заперт альбом для посетителей. Расспрашивая и роясь в каталогах, мы узнали, что «Мать-курочка» на весь мир знаменита своими омлетками. Был ли ресторан здесь в 1910 году? Даже раньше был. «Мать-курочка» тут с незапамятных времен…