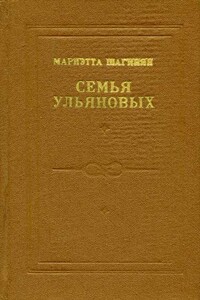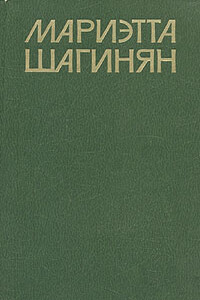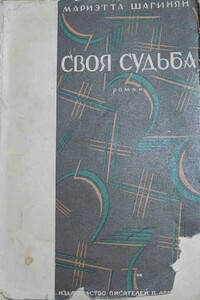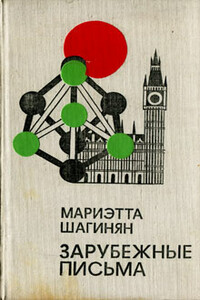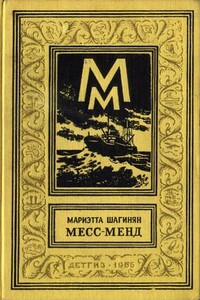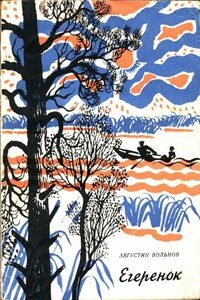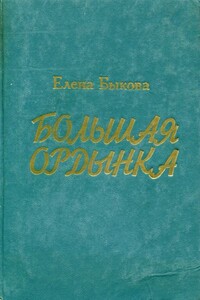Четыре урока у Ленина | страница 101
Поскольку я обещала читателю содрать с себя корку официального «страха божия» и не бояться впадать даже в такую «ересь», как разбор сказанного Ильичем, как если б он был обыкновенным человеком, я выскажу тут нормальное свое мнение, что Ильич вдруг добавленьем уничтожил сказанное раньше и как бы вместо оговорки — повторил Горького! Ну разве фраза «можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не смысл борьбы, не значение ее партийное и политическое» — не то же самое, что сказал Горький — «людей понимаю, а дела их не понимаю»? Совершенно то же самое, и если б Ильич действительно согласился с такой формулой, он не стал бы и оговорку писать. А он написал, и я повторяю ее, на этот раз прибегнув к собственному подчеркиванью: «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как… внешне».
Сейчас объясню читателю, почему я придаю такое огромное значение мысли Ленина, сказанной в виде оговорки, — в ее первой части. Но до этого хочу попытаться объяснить противоречие, в которое тут впал сам Ленин. Может быть, он не мог позволить себе сказать крупному художнику, что тот не понимает подлинной психологии людей, если не вник в глубокий политический смысл борьбы, в которой эти люди участвуют, — и сказал это обратным ходом, переведя центр тяжести вопроса с «людей» на «борьбу», то есть на их «дело». Может быть, тут просто, от спешки, с какой добавлялась оговорка, произошли переползание смысла и синтаксическая перевернутость. Но что бы там ни было, факт остается фактом. Ленин прежде всего сказал (и этого топором не вырубишь): «Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как… внешне».
Для меня это краеугольный камень эстетики Ленина, его понимание лепки художественного образа в литературе. Только лишь обличье человека, восприятие его по признакам, открытым для всех, — ну, скажем, — на улице, на скамейке в парке, на фотографии и даже — при разговоре, в гостях, в вагоне поезда (хотя и тут не остается человек без дела в прямом смысле слова, то есть без пассивного участия своего в каком-то общем движенье) — не может привести к глубинному пониманию психологии этого человека, а разве что к конкретным штрихам условного в целом портрета, — к «внешнему образу». Большой советский актер спросил у меня как-то: пробовали вы, сидя в театре, разгадывать для себя настоящий характер актера, каков он в жизни, когда видите его игру на сцене? Должно быть, он и сам, спрашивая это, не понял, какую глубокую и очень сложную вещь сказал, — ведь не только остроумная тренировка наблюдательности, а еще и дар диалектики нужны для такой разгадки, — поскольку «игра на сцене» — дело жизни актера…