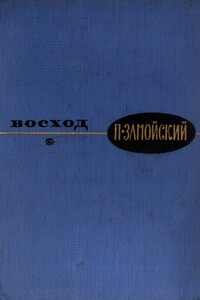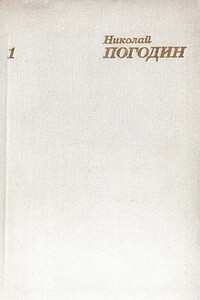Исповедь на рассвете | страница 63
Пытаясь припомнить, что случилось, предположил было, что стрелял в меня Казанби. И ошибся. Казанби не посмел выстрелить. Выстрелил другой, более ожесточенный кулак Азнаур. «Что было! Что было! — рассказывала нянька, первой зашедшая в палату. — Люди чуть не расправились с Азнауром самосудом, власти с трудом его отбили. Азнаура арестовали, а весь их скот пригнали в сельские загоны. Много шуму было, хакимы понаехали из района: говорят, один едет даже из столицы…»
Я думал, дочь Казанби, оскорбленная, что я обличал отца, больше не придет и не простит… Все же Зулейха пришла, села у изголовья, долго молчала и наконец спросила:
— Зачем ты это сделал?
— Что, моя желанная?
— Тебя же могли убить.
— Могли.
— А обо мне подумал?
— Да. Потому и сказал обо всем. А разве меня осуждают?
— Тебя нет, а меня осуждают.
— Не обращай внимания.
— Легко сказать: люби человека, который унижает твоего отца!
— Он говорил с тобой?
— Нет его в ауле, бросил все и уехал.
— Куда?
— Не знаю. А баранту из Апраку пригнали в артель и со двора выгнали весь скот, оставили только корову с теленком и одного коня.
— Нам хватит.
— А что будем делать?
— Я буду работать, ты — хозяйничать дома.
— Очень болит?
— Нет, пустяки. Пройдет, родная. Говорят, у достойного на теле должно быть семь рубцов от ран. Это как раз седьмой! — пошутил я, хотя боль жгла нестерпимо.
— Хочешь сказать, что у меня достойный муж?
— А как же!
— Мне говорят: «Сакля теперь ваша, живите!»
— Кто сказал?
— Наш сельсовет Амир-Чупан.
— Ну что ж: живи и жди меня, начнем новую жизнь. А что зла не хранишь — спасибо. И любить тебя буду еще сильнее…
И невольно подумал, что постепенно врастаю в шкуру Мутая из Чихруги даже перед любимой женой.
Моя речь на сходе, оказывается, имела успех, и мугринцы прониклись ко мне уважением. Меня посещали люди, хвалили хакимы, а я прикидывался скромным, отнекивался: мол, ничего особенного не совершил, любой другой мугринец сказал бы то же самое!
Неожиданно больницу посетил приехавший из столицы Дагестана человек. Когда он вошел в палату, я невольно приподнялся в крайнем волнении и глупо подумал: «Я же его убил! Разве может мертвый вернуться с того света?!» Да, у моей постели стоял Мирза: то же угловатое, будто неаккуратно обтесанное мастером лицо; живые глаза, в которых светится больше ума, чем настороженности и недоверия; стройный юный крепыш, легкий и ловкий, почти подросток. Я понял: это сын Мирзы Харбукского! И невольно возблагодарил аллаха, что не приехала его мать Амина, бывшая моя нареченная. От одной мысли об Амине словно покачнулась земля. От волнения и боль в плече будто притихла.