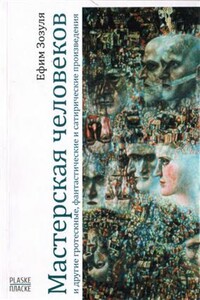Исповедь на рассвете | страница 52
— Могу уйти от тебя.
— Уйдешь, другого найду. Ишь ты, напугал! — усмехался Казанби, хлопая плетью по голенищу; он приобрел доброго коня с хорошим седлом, с уздечкой, украшенной серебряными бляхами, да и плеть была с ручкой из слоновой кости. Каждый раз он являлся в обновке — то новая черкеска, то папаха серого каракуля, то серебряные карманные часы с цепочкой, то кисет, вышитый кораллами. Но всякий раз, когда я раздражался, он начинал говорить мягче:
— Ну, чего обижаешься? Я тебя одел?
— Одел.
— Я тебя обул?
— Обул.
— Я тебя кормлю?
— Да.
— И что тебе еще надо? Я знаю, собака хорошо служит, если она сыта. Вот я и стараюсь, чтоб не мерзли, не голодали…
— Разве я плохо работаю?
— Я этого не говорю: баранта у меня увеличивается… Хочу еще подпаска нанять, чтоб ты не скучал. Как думаешь?
— Неплохо бы, — я обрадовался: одному и впрямь становилось трудно.
Однако вместо подпаска прислал того самого батрака, что прежде восхвалял хозяина. Но его подстерегла беда, когда вез в город продавать хозяйское зерно: на трисанчинском склоне арба с зерном и быками сорвалась в пропасть. Казанби нещадно избил несчастного Чанку и сослал ко мне в подпаски. До этого веселый, Чанка стал угрюмым, неразговорчивым…
В обществе веселых овец и мрачного Чанки весна сменилась летом, осень зимой, а у меня все не было ни своего угла, ни подруги, ни даже друга — разговоры с Чанкой не получались, ответит «да» или «нет» и снова молчит, будто камень-валун. И все же я трижды слыхал, как бормотал Чанка: «Ну, ничего! Еще не родился храбрец, который меня стреножит…»
Лишь однажды он разговорился.
— Скажи, Мутай, разве это справедливо?! — неожиданно спросил он. — Вот говорят: пришла справедливая власть… А чем я хуже Казанби?
— Ничем.
— Власть дала мне такие же права, как ему. Правда?
— Правда.
— Так разве он имеет право бить меня?!
— Не имеет права. Пусть только попробует замахнуться на меня!
— Слушай, давай вдвоем сделаем ему революцию!
Я от души рассмеялся; поймите меня, это было не так наивно, как вымучено долгими размышлениями обо всем, что творилось в его убогой жизни; многое он не мог объяснить и обозначил емким словом «революция»!
— Тебе смешно… — он усмехнулся; так ученик говорит с мудрым, всеведущим учителем.
— Нет, нет! — поспешил я успокоить. — Просто вспомнился случай.
Не хотелось обижать Чанку; к тому ж видел, что всякого обидчика он считал кровным врагом.
— Ладно, я ему еще припомню! Пусть этот разговор умрет меж нами… — И снова умолк, больше ни о чем не спрашивал, а все мои попытки рассеять его недовольство остались тщетны.