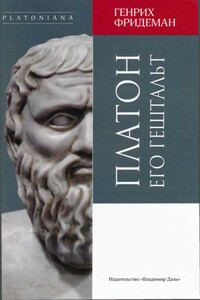Трудные дороги | страница 23
Я одобрил план Реды, попросив, чтобы он пока никому не говорил о нем. До самого дня, когда надо будет приступать к выполнению, о нем будем знать только трое: Реда, Калистов и я.
Еще ближе я сошелся с Редой. Постепенно мне открылись думы этого великана. О Китае он упомянул так, может быть в расчете, чтобы соблазнить. Думал он о другом: выбраться в родные места, составить из друзей небольшой отряд, выйти к сибирской магистрали и начать партизанские набеги, стараясь поднять восстание в больших селах и городах. Пробью в концлагере три года и повстречав множество людей из разных мест России, Реда сильно раздвинул свой кругозор таежного чалдона. Здравый рассудок и природная сметка позволили ему разобраться в настроениях людей, подметить главное, обобщить, а сильная воля и страсть подсказали: если взметнуться, решительно, с расчетом на всю Россию — может быть, получится запал, от которого громыхнет общий взрыв. Это был природный вожак, способный преодолеть крестьянскую ограниченность, и я видел, что за ним пошли бы. Кто знает, может быть его думы как-нибудь и воплотились бы в действительность?
План Реды открывал не просто даль: из отвлеченного мечтания возникала цель. В думах Реды были белые пятна; его вел тоже не столько рассудок, сколько чувство, инстинкт, но это было здоровый инстинкт. О многом еще рано было думать, но это не помеха: белые пятна сотрутся потом, неясное прояснится в действии. И не мне отговаривать: я готов помогать, сколько хватит у меня сил, хотя бы дело и не обещало обязательного успеха…
Весна торопилась. Неделю назад казалось, что мертвые покровы в лесу, слежавшиеся ледяными глыбами, не растопить. А из-под них земля уже тянулась к солнцу. Беспокойный земной дух прошиб глыбы снизу, солнце съедало их сверху; снег осаживался — и вот уже он, как ненужный ноздрястый нарост. Теплый ветер выметает его, как с улиц выметают сор. Иначе запахло в лесу: природа на глазах совершала крутой поворот; обновление было неминуемым.
Поворот совершался и в душах. Яснее, чем когда прежде, можно было ощутить, как за внешним скрывается невидимое, более важное, чем видимое. Взгляд словно проникал сквозь оболочки и видел глубину душ. Я всматривался в лица, в глаза: который? Не этот ли? И безошибочное чувство часто говорило: и этот. Этот тоже под будничной покорностью таит дерзкую мысль: пробить налет, вырваться, взлететь ввысь. Душа издырявила пригибавший его к земле пласт — еще усилие, еще день, еще солнечный луч или веяние ветра весны, обжигающего ветра свободы — и человек выпрямится в рост. Похоже, что половина нашей группы готова была бежать и тайное для того, кто мог видеть, кто жил тем же чувством, стало явным.