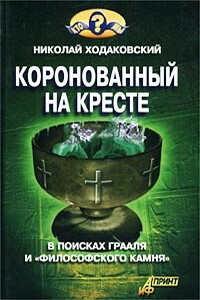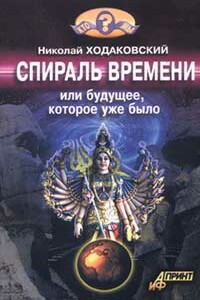Третий Рим | страница 68
Некоторую опору мы имеем в цифрах афинского ополчения в начале Пелопоннесской войны; они невелики, несмотря на то что граждан весьма интенсивно притягивали к несению военной повинности и забирали очень немолодые возрастные группы. В эпоху греко-персидской войны население было, вероятно, менее плотно и ополчение было еще меньше. Афины едва ли могли выставить более 5000 гоплитов. Спарта, вероятно, — столько же».
Удивительна потрясающая подробность, с которой нам известна древняя история. Она, пожалуй, известна нам лучше, чем средневековая. Наши сведения, например, о Шекспире, жившем менее 400 лет тому назад, отличаются крайней неполнотой. До сих пор ведутся серьезные споры по поводу установления основных фактов в его биографии. Вместе с тем насколько точнее и полнее нам «известна», скажем, биография Аристотеля. Хотя это и было более 2000 лет тому назад, но здесь все как на ладони. Отец его был врач Никомах. Ровно 17 лет от роду мудрец прибыл в Афины, где учился у Платона, ученика Сократа, жену которого звали Ксантиппой (о ее характере также имеются самые достоверные сведения). Учился Аристотель у Платона 20 лет, а затем он купил участок земли для своей собственной школы по соседству с храмом Аполлона Ликейского.
В 343 г. до н. э. Аристотель берет на себя воспитание и образование 13-летнего Александра, сына Филиппа Македонского. «И если Александр впоследствии широтой ума и образованностью превосходил всех современных ему политических деятелей, то в этом, несомненно, сказались плоды выработанного им в юности, под руководством Аристотеля, широкого умственного кругозора». Скончался Аристотель в 322 г. до н. э., правда, неизвестно, в какой день недели, но, во всяком случае, «от давней болезни желудка».
Поражают «древние письма», якобы дошедшие до нашего времени. Вот пример знаменитого письма Плиния Младшего, в котором описывается извержение Везувия, погубившее Геркуланум и Помпею.
«Ты спрашиваешь, как я провожу дни на моей тосканской вилле? — пишет Плиний другу. — Просыпаюсь, обыкновенно, часу в первом, иногда раньше, редко — позже. Окна оставляю закрытыми: мысль ярче и живее во мраке и безмолвии… Работаю то больше, то меньше, смотря по тому, чувствую ли себя расположенным. Потом зову секретаря, велю открыть ставни, диктую то, что сочинил. Он уходит, зову его снова; опять отсылаю… Продолжаю сочинять и диктовать. Сажусь в экипаж… Немного отдохнув, громко читаю какую-нибудь латинскую или греческую речь, более для укрепления груди, чём голоса, но и голосу это полезно. Еще гуляю, меня натирают елеем, занимаюсь гимнастикой, беру ванну. Во время обеда за столом сидит со мною жена или несколько друзей; что-нибудь читаем вслух. За десертом в залу приходит комический актер или музыкант с лирою…»