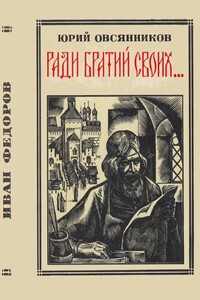Двойник полуночника | страница 54
Главное, это свершилось или вот-вот должно свершиться, несмотря на безуспешные старания врачей (процесс по делу которых намечался на понедельник), которым никогда не узнать, каким ядом он был отравлен. Через несколько часов яд растворится без следа, а настоящий Coco к тому времени станет живым трупом - не понадобится даже его искать. Разве последний раз посмотреть в его глаза, чтобы ползал и лизал ноги кровавым отверстием беззубого рта, который он, Берия, (если захочет) зальет свинцом, а еще лучше золотом, чтобы подарить этот застывший и причудливый цветок-слепок его Нино...
Но, нет. Он великодушен. Даже не станет его искать. Хотя какая могла бы получиться охота - охота на охотника! Он уже придумал ему другую месть. В лучших традициях своего учителя. Он будет хоронить его живого на глазах планеты всей, а главное - на глазах его, Coco. От одного предвкушения такой мести он, Лаврентий, готов оставить ему жизнь. Это тебе, Коба, не то же, что палить из револьвера по яйцам на плоских головах своих рабов, или подкладывать под задницу подлипалы Микояна торт, или тайком подглядывать, как Саркисов будет укрощать молоденьких балерин для его, императора, ненасытных утех.
И только тогда подумал о двойнике, который остался лежать на глазах у всех и, может, даже понимал, что делалось вокруг, но не мог ничего сказать. Этот яд из глубин Африки доставляли по эстафете десять курьеров и каждый из них умирал точно такой же смертью, и нигде, в лучших госпиталях Европы, лучшие специалисты не могли объяснить причину. Называли только следствие, но их слова к тому времени уже не имели никакого значения. Смерть стирала все следы.
28.
О нем забыли. Словно вычеркнули. Ни допросов, ни изматывающих душу и тело показаний, которые почему-то стали никому не нужны. Он и сам теперь никому не нужен со всеми своими страхами и мыслями, точно его уже нет. Вот уже третьи сутки, как он валяется на нарах этой привокзальной камеры, забитой отбросами большого города, которые даже в таких условиях умудрялись жить, существовать. А главное - что его особенно поразило - они не боялись! Они не боялись ни бога, ни черта, ни ночи, ни утра, словно уже достигли той абсолютной степени свободы, за которой все позволено и даже смерть не смерть, а что-то вроде закономерного перехода в другое качество, возможно, не лучшее и не худшее, а просто - другое. Совсем как у Ницше - свободны от мук, именуемых совестью, которая всего на всего - химера, чтобы из века в век дурачить простодушных христиан.