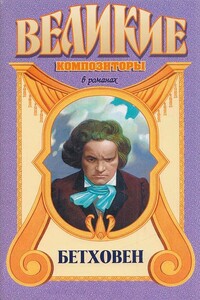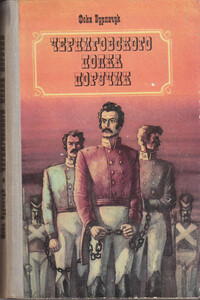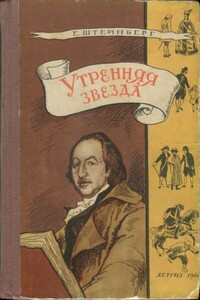Двойник полуночника | страница 25
По радио объявили посадку, и народ хлынул на перрон. В одном из залов ожидания освободилось место, и он обрадовался этому, как ребенок. Сразу стало спокойно и легко, словно именно это место он искал. Здесь его не возьмут. Не посмеют. Среди своего народа он в безопасности.
От усталости и тепла слипались веки. Но время уже остановилось...
Потом откуда-то издалека стала наплывать песня. Старая застольная грузинская песня. Ее пели в минуты настроения, когда на душе бывает особенно хорошо. Голоса то рассыпались, то выстраивались друг за другом в один, непередаваемо красивый и сильный. Будто пели сами горы.
Это была песня мужчин - старинная и печальная песня, от которой начинало сперва сладко пощипывать в груди, а потом саднить и раздирать ее до крика, пока на глазах не выступали слезы. Но слез этих никто не стыдился, потому что это были слезы очищения и любви.
Возможно, так пел его отец, такой маленький и тщедушный в жизни, с впалой чахоточной грудью мастерового-сапожника, который в песне словно вырастал в исполина в черной бурке с газырями и кинжалом. Наверное, именно в такие минуты его и полюбила мать... чтобы все оставшиеся минуты с такой же силой презирать и ненавидеть, пока эта жгучая ненависть не превратилась в смерть.
Однажды, незадолго до кончины (он и смерть выбрал, как мужчина - от ножа, в драке за свою и ее, матери, поруганную честь) он повел его, маленького Coco, в горы, где показал тайник. Потом жизнь закружила, он забыл, а может, и просто не придал значения этому факту, посчитав за пьяный лепет вконец опустившегося человека... А может, уже тогда предчувствовал, что это может быть за тайна. Та самая "обнаженная тайна отца", которой ему, Coco, лучше всего не знать.
Как сейчас, он видит этот камень, схваченный пожелтевшим лишайником, в стене старого разрушенного монастыря. Словно эта тайна уже успела разрушить монастырь и теперь на очереди он, Coco. А камень тот как немой укор. Затерянное надгробие в пустыне снов.
Что-то заставило его вздрогнуть. Кажется, он уснул, и то, что еще минуту назад казалось сном, никак не хотело его отпускать. Так бы и остался навечно у этого древнего монастыря. Но кто-то все мешал и тормошил: "нельзя... спать нельзя... спать..." и все назойливее тряс его за плечо. Но ему все равно. Голова уже давно стала легкой и пустой. Она болталась на пожухлом стебле, как перезревший початок кукурузы и сморщенный от старости (и мудрости) до величины вульгарного ореха мозг (точь-в-точь, как у его наставника и учителя Владимира Ильича, - теперь он знал, что у каждого революционера именно такой сконцентрированный до размеров ореха мозг) уже начинал из хаоса ночи выстраивать какой-то ритм - до боли знакомую и печальную песню гор. Словно откуда-то, постукивая, один за другим скатывались камушки, которые на поверку оказывались все теми же орехами с прошлогодними мозгами революционеров-ленинцев.