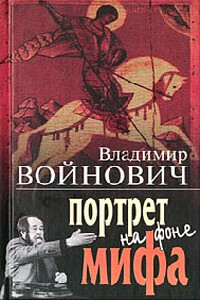Деревянное яблоко свободы | страница 44
– Кого тебе, барин, надобно? – обратилась затем ко мне старушка, в которой я сразу признал Верину няньку Наталью Макарьевну, о которой Вера мне много рассказывала.
– Дома ли барин Николай Александрович? – спросил я.
– А где ж ему быть? – отвечала старуха. – Николай Александрович и Екатерина Христофоровна, все дома.
– А вы, стало быть, Наталья Макарьевна? – спросил я.
– Она самая, – заулыбалась старуха. – А ты чей же будешь, чтой-то я никак не признаю.
– А я, бабушка, ничей, – пошутил я. – И признать ты меня не можешь, потому что мы не знакомы.
Я привязывал лошадь к крыльцу, когда дверь распахнулась и на крыльцо выбежала Вера.
– Алексей Викторович! – ахнула она и, сбежав по ступенькам, остановилась передо мной. – Я вам так рада!
Я сказал ей, что тоже очень рад и что с той самой поры, как она уехала из Казани, думал о ней постоянно.
– Так уж и постоянно? – не поверила она.
– Так уж и постоянно, – сказал я. – А где же ваш батюшка?
– А вон он, – сказала Вера.
И в самом деле, на крыльце появился Николай Александрович, как всегда, прямой и подтянутый. Одет он был в красную косоворотку, подпоясанную шелковым ремешком, суконные брюки были заправлены в высокие сапоги.
– Кого бог принес? – спросил он своим уверенным и властным голосом. – Никак Алексей Викторович! Вот уж, как говорится, не ожидал. Надолго ли?
– Да как сказать. Пока что на денек, если не прогоните. А вообще, прислан к вам в уезд судебным следователем.
– Вот оно что, – сказал Николай Александрович. – Слыхал я о том, что у нас новый следователь, исправник на днях сказал, да не знал, что вы. Говорили только, что следователь строгий, крутого характера.
– Ну уж и крутого, – смутился я. – Характера я самого обыкновенного, можно даже сказать, мягкого, но к делу своему пытаюсь относиться добросовестно.
– Да что ж это мы тут стоим? – вдруг спохватился Николай Александрович. – Пройдемте в дом. А ты, Наталья Макарьевна, – обратился он к старухе, – найди, будь добра, Порфирия, пусть лошадь сведет на конюшню, расседлает да даст овса. Овса, слышишь, а не сена!
Мы сидели посреди сада в беседке, старательно расписанной доморощенным художником. Прямо передо мной красовалось изображение пухлой девицы, грустящей у самовара, и надпись славянской вязью: «Не хочу чаю, хочу шампанского». Мне хорошо и покойно, но, не имея смелости сказать о своих чувствах, я продолжаю разговор, начатый еще у меня, в Казани. Я говорю о том же, но как много изменилось с тех пор!