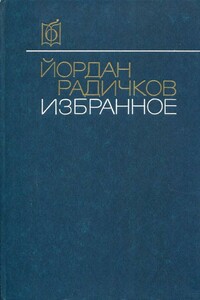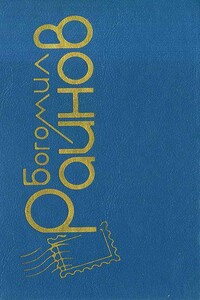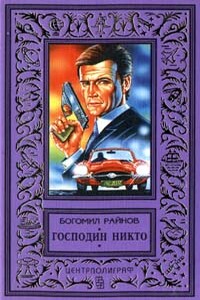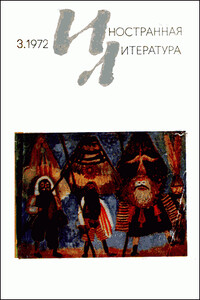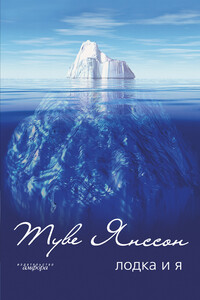Странное это ремесло | страница 13
Улица — это плавающие в лужах крови тела двух македонцев, друзей моего отца, убитых в трехстах метрах от нашего дома; это пасмурные или солнечные утра, когда квартал бывал оцеплен полицией и приходилось лезть через заборы, чтобы добраться до пекарни, а по тротуарам тяжело ступали солдаты в касках и то там, то тут раздавались предупреждающие выстрелы.
Улица — несколькими годами позже — это прогулки под каштанами проспекта Царя Освободителя, и споры во время этих прогулок, и взгляды украдкой, чтобы найти в людском потоке девичье лицо, которое, в сущности, волнует тебя гораздо больше, чем любой спор.
Улица — это и первое мое участие в демонстрации; когда мы двигались широкими рядами и пели «Хаджи Димитр»[6] и полиция с дубинками набросилась на нас справа и слева, а мы, взявшись за руки, продолжали под ударами идти вперед, пока спереди не налетела конница. Лошади врезались в толпу, посыпались сабельные удары, и хоть сабли были в ножнах, одного удара по темени достаточно, чтобы сбить с ног, и мы, защищая руками головы, пробирались между лошадьми, ошалевшими от шума и воплей. Улица — это и другие демонстрации по проспекту Царя Освободителя, и перед университетом, и на углу проспекта Дондукова и Торговой, где полиция, случалось, разгоняла нас прежде, чем оратор успевал раскрыть рот.
Улица — это и бесконечные колонны немецких машин, выкрашенных в серый, мертвенный цвет, роты солдат в зеленых мундирах, визгливые нацистские марши, дешевые трактиры, где кишмя кишели дешевые женщины и пьяные гитлеровцы.
Улица — это еще и многое-многое другое, и я — порой безнаказанно, порой набивая более или менее болезненные шишки, — искал там свое место и свое призвание в жизни — грязной, душной, уродливой, но в которой уже зрело и набирало силы новое.
В кабинете моего отца было значительно тише, чем на улице, настолько тише, что в окружающей толчее он казался оазисом спокойствия и безопасности. Но это была только видимость спокойствия и видимость безопасности. Безмолвно покоившиеся на полках книги содержали в выкристаллизованном виде все то, что отрывочно и бессвязно мелькало передо мной на улице, все человеческие устремления, идеи, страсти. Одни из этих кристаллов сверкали неярким, но опасно манящим сверканием, другие излучали чистый и ясный свет.
Отец не любил, чтобы рылись у него в книгах, но я придумал удобный предлог — смахивать с них пыль. И он разрешил — вероятно, полагая, что уж лучше я немного нарушу порядок в его шкафах, чем буду озорничать во дворе. Смахивая с книг пыль, я пользовался случаем, чтобы полистать их, особенно если они были с иллюстрациями.