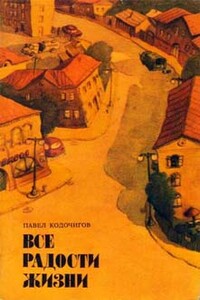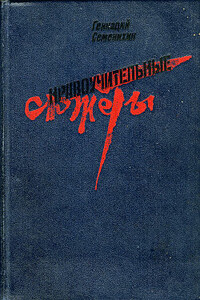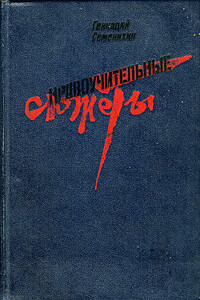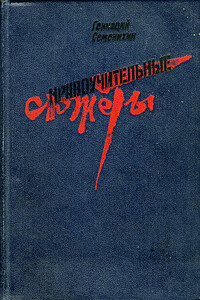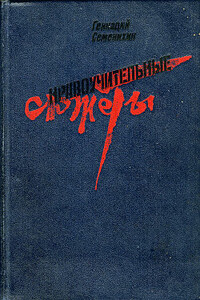Так и было | страница 7
По слову, а то сразу и по два, Пушкариха рассказала, что с ней произошло. Когда фашисты начали выгонять свиней со дворов и сбивать в кучу, она не захотела отдавать своего боровка, схватила палку и заступила дорогу грабителям. За это ее той же палкой да прикладами загнали под крыльцо и стали там травить, как собаку.
Мать, никогда не упускавшая случая в глаза и за глаза поругать соседку, на худой конец, поперечить ей опустилась на колени, стала гладить по голове и успокаивать:
— Ты потерпи, Мария. Мы тебя обмоем, травкой обложим, и, дай бог, поправишься скоренько, — подняла голову, увидела сына и нашла ему дело: — Беги нарви подорожника побольше, а вы, — шумнула на дочерей и других ребятишек, — марш по домам! Нечего тут глазеть! Избитую подняли, осторожно занесли в дом и по примеру матери тоже стали почему-то звать не Пушкарихой, а Марией. Обмыли раны, обложили их подорожником, перевязали. Небольшая заминка вышла, когда хотели больную оставить в доме.
— Не хочу здесь! Отнесите в овраг! — вскричала Пушкариха.
Мать вскинула голову, хотела было отчитать перекорную, но неожиданно для себя согласилась с ней:
— Дело говоришь, Мария. И мы нынче останемся в овраге, и нам здесь сна не будет.
Занятая хлопотами, об угнанных свинье и поросенке мать вспомнила лишь в овраге и отвела душу. Досталось и солдатам, и их матерям, и бабушкам вместе с прабабушками, и всей фашистской нечисти во главе с их окаянным Гитлером. Мать покричать любила, и, если на нее накатывало, остановить ее было невозможно. Тихий и молчаливый отец в таких случаях показывал матери спину.
И Гришка показал. До вечера прокупался с приятелями на Полисти. Там решили ночевать в деревне. Одни! Без родителей! Но когда дошло до дела, Вовка Сорокин сказал, что его мать не отпускает, Колька и Петька Павловы сами расхотели, а Ванька Федотов сказал Гришке, чтобы и он не ходил.
— Это почему?
— Так страшно же будет в пустой деревне!
— Договаривались же!
— Мало ли что договаривались. Мы уже передоговорились — никто не пойдет, — Ванька ехидно прищурился: — И ты — тоже. Слабо одному!
Не скажи Ванька «слабо», он бы остался, но раз так.. По оврагу шел бодро, а поднялся наверх — и шаг замедлил, даже постоял и поразглядывал улицу, будто шел не в свой, а в чужой дом. Пугали черные глазницы окон, полная темнота в деревне и во всей округе. И тишина. В доме всегда были маленькие. Они кричали и плакали по ночам, слышалось дыхание спящих, кто-нибудь ворочался, всхлипывал во сне, выходил во двор. Гришка никогда не думал, как все это важно и необходимо для душевного спокойствия. Сознание, что он один в доме, во всей деревне, угнетало, все чудилось, будто кто-то таится неподалеку, дышит, что-то замышляет против него.