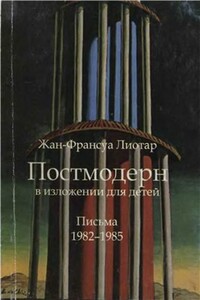Состояние постмодерна | страница 10
Это последнее наблюдение приводит к предположению существования первого принципа, лежащего в основе всего нашего метода: говорить значит бороться — в смысле играть; языковые акты[34] показывают общее противоборство (агонистику).[35] Это совсем не значит, что играют только для того, чтобы выиграть. Можно применить прием только из удовольствия от его придумать: разве не это мы находим в народной речи или литературе? Беспрерывное выдумывание оборотов, слов, смыслов доставляет большую радость, а на уровне речи — это то, что развивает язык. Однако, конечно же, само такое удовольствие не свободно от чувства успеха, как минимум вырванного у противника, и зависит от величины, принятого языка, коннотации.[36]
Эта идея речевой агонистики не должна скрывать следующий принцип, комплементарный первому и определяющий наш анализ: наблюдаемая социальная связь основана на речевых «приемах». Раскрывая это предположение, мы подойдем к главной теме.
Глава 4
Характер социальной связи: альтернатива модерна
Если мы хотим рассмотреть знание в наиболее развитом современном обществе, то вначале необходимо решить вопрос о существующем об этом обществе методологическом представлении. Упрощая до предела, можно сказать, что по крайней мере последние полвека это представление делилось, в принципе, между двумя моделями: общество образует функциональное целое; общество разделено надвое. Первую модель можно проиллюстрировать именем Толкотта Парсонса (по крайней мере, в послевоенный период) и его школы; вторую — марксистским течением (все входящие сюда школы, какими бы разными они ни были, разделяют принцип борьбы классов и трактуют диалектику как раздвоение единого, влияющее на социальную целостность).[37]
Это методологическое расхождение, определяющее два основных вида дискурса об обществе, берет начало в XIX веке. Идея о том, что общество составляет органическое целое, без чего оно перестает быть обществом (а социология потому теряет предмет исследования), занимала умы основателей французской школы; она уточняется с появлением функционализма и принимает другой оборот, когда Парсонс в 50-х годах приравнивает общество к саморегулирующейся системе. Теоретической и даже материальной ее моделью более не является живой организм, ее основой становится кибернетика, применение которой растет в течение и в конце второй мировой войны.
У Парсонса принцип системы, если так можно выразиться, еще оптимистичен: он соответствует стабилизации экономического роста и обществам изобилия под эгидой умеренного welfare state.