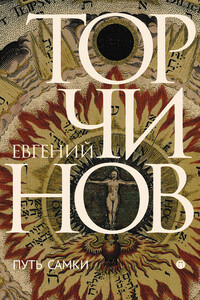мусульманского Халифата. И все же большая часть человечества продолжала придерживаться религиозных представлений совершенно другого характера. Не говоря уж о населении большей части Африки, Америк, Австралии и Океании, жители Индии, Китая и прилегающих к ним стран явно образовывали большую и тогда наиболее процветающую часть человечества. Картина изменилась только в эпоху все тех же Великих географических открытий, когда европейцы начали заселять огромные пространства новооткрытых земель, принося туда с собой христианство и постепенно вытесняя и христианизируя (зачастую насильственным образом) аборигенное население этих земель. И если теперь именно выходцы из Европы образуют большую часть населения Северной Америки (в Южной ситуация менее однозначна) и Австралии, то не остается никаких сомнений и в том, почему там доминирует христианство. Итак, опять-таки не какие-то закономерности имманентного развития религии или особые благие качества новозаветного послания, а следствие военно-политической, экономической и цивилизационной экспансии молодого хищного Запада в новооткрытые земли по всему миру превратило христианство в доминирующую религию и «эталон» религиозного учения для религиоведов (надеюсь, что не для лучшей их части). Если же говорить об имманентной трансформации религиозности, то именно монотеистический креационистский тип религии представляется неким странным явлением в духовной жизни человечества, Впрочем, это исконное пребывание в «меньшинстве» не означает того, что монотеизм авраамического типа «хуже» учения иных религий,
[9] равно как и доминирование христианства в современном мире не доказывает того, что оно «лучше» буддизма или индуизма.
Цивилизационный подход, имеющий несомненную генетическую связь с теорией культурно-исторических типов Данилевского и историософией Шпенглера, напротив, базировался на принципиальном признании плюрализма культур и цивилизаций (для него характерно рассмотрение именно цивилизационных различий в качестве формообразующих и базовых). Не социально-экономические отношения определяют культурно-исторический тип данного общества, но, напротив, его цивилизационные характеристики определяют как характер производственных отношений, так и природу его политических институтов. Если историки, следующие формационному принципу, могли до хрипоты спорить, выясняя, когда в Китае появились «ростки капитализма» и почему эти ростки так и не развились вплоть до насильственного «открытия» Китая западными державами, то историки с «цивилизационной» ориентацией только пожимали плечами и говорили, что китайская цивилизация имела такой характер, что имманентно в ее рамках никакой капитализм просто не мог появиться в принципе и что он так никогда бы и не возник, если бы не был занесен туда с Запада после так называемых «опиумных войн» в середине XIX столетия.