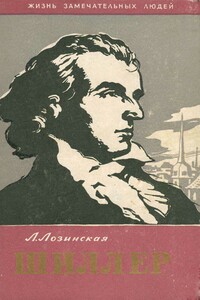Во главе двух академий | страница 41
Путь из Троицкого (за Серпуховом) до Москвы был по тем временам немалый, но княгиня педантично проделывала его каждые две недели – возила детей к бабушке.
Во время одного из таких наездов в Москву Екатерина Романовна знакомится с Потемкиным, в ту пору генерал-адъютантом и уже, по отзывам иностранных послов, «самым влиятельным лицом в России». (Академик Тарле называл Потемкина единственным человеком, который имел влияние на Екатерину II.16).
В «Записках» нет характеристики Потемкина, но Дашкова не в силах сдержать ликование по поводу того, что Григорий Орлов «теряет свои прерогативы», «Горизонт моей жизни прояснялся...» – пишет она.
С победой над Турцией Дашкова поздравила государыню письмом и подарком, милостиво принятым. Это была картина Анжелики Кауфман, изображавшая прекрасную гречанку, – сюжет, уместный в данном случае. Творчество Кауфман в России еще известно не было, но интерес к художнице подогревался слухами о романтических перипетиях ее жизни. Якобы какой-то отвергнутый поклонник-лорд способствовал браку Анжелики с неким шведским графом, оказавшимся (это выяснилось, естественно, уже после свадьбы) вовсе не графом, а камердинером мстительного лорда. Брак был расторгнут. Но Англия, где Кауфман только что избрали в Академию художеств, так ей его и не простила.
В Государственном Эрмитаже есть несколько полотен этой сентиментальной немецкой художницы, ими мы в какой-то мере обязаны Дашковой.
В 1773 г. в Петербург приезжает Дидро. Он стар и измучен дорогой. Доехать до Дашковой в ее подмосковное имение у него нет сил: «несчастная машина, расстроенная утомительным путешествием, окутанная от холода шубой в пятьдесят фунтов веса, иззябшая, истасканная и дрожащая... истинно жалкая машина не позволяет мне явиться к Вам...»17.
Конечно, Екатерина Романовна с присущей ей энергией примчалась бы тотчас в Петербург, если бы могла.
Но, должно быть, путь ко двору был ей тогда заказан. Однако почему?
Поиски ответа на этот вопрос заставляют нас обратиться к событиям, до недавнего времени недостаточно оцененным в исторической литературе. Значение их поновому высвечено в трудах советского исследователя Н.Я. Эйдельмана18.
Речь идет о попытке Н.И. Панина, влиятельнейшего сановника, фактического министра иностранных дел, установить в России конституционную форму правления.
Идея эта была для Никиты Ивановича не нова: претворить ее в жизнь он пытался еще десятилетием раньше. В ту пору свои надежды Панин связывал с Екатериной. И ей, тогда еще великой княгине, да и племяннице – Дашковой – Панин не раз умно и осторожно доказывал преимущества конституционной монархии и, казалось, встречал сочувствие. Результаты переворота 1762 года, одной из главных действующих пружин которого был Панин, не оправдали его надежд. Однако и не изменили намерений.