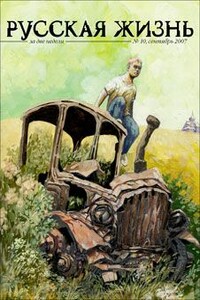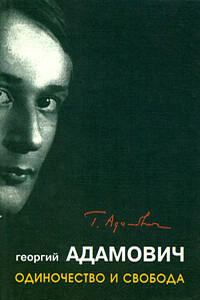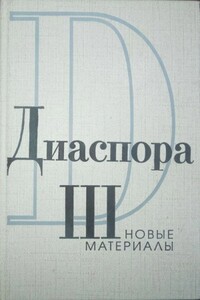Литературные заметки. Книга 2 | страница 85
Перелистав «Второе рождение», списываю стихотворение, которое кажется мне лучшим в книге, — самым чистым и правдивым, прелестным в своем стилистическом целомудрии:
Приведу еще конец описательного стихотворения «Лето». Поэт вспоминает, как он «с неба сорвал налет недомолвок».
Здесь сплетенье Платона с Пушкиным волшебно. Редким и скудным сиянием озаряют книгу Пастернака такие строфы.
ИГРОК
В одном из писем Достоевского есть такая фраза: – В Висбадене я после проигрыша выдумал «Преступление и наказание».
Очень заманчиво попытаться восстановить, как возник в сознании писателя замысел его романа. Но для этого у нас нет данных. Исследователю нечего делать в области фантазии: она открыта лишь поэту или художнику.
Леонид Гроссман, автор книги «Достоевский за рулеткой», не поэт и не художник: напрасно он не за свое дело взялся. Ему тоже приходится «выдумывать»: иначе восстановить генезис знаменитого романа невозможно. Не обладая ни талантом, ни вкусом, он беспомощно бьется в потоке напыщенных, ложно красивых слов и эффектных, но не достоверных догадок. Книга вызывает интерес самым названием своим. Автор — человек, составивший себе имя работами по изучению Достоевского. Думаешь, что он обстоятельно расскажет о темном, тревожном, «рулеточном» периоде жизни его… Но название не соответствует содержанию книги. Гроссман повествует не столько о том, как Достоевский играл, сколько о мыслях, чувствах и воспоминаниях, будто бы нахлынувших на него в висбаденском игорном зале. Он смешивает факты с очевидными небылицами, правдоподобное с невероятным. Довольно часто с грациозной непринужденностью он подставляет на место Достоевского самого себя: иначе получилась бы, — говоря по-советски, — «неувязка». Тогда-то порочность всего его построения и обнаруживается: если бы, действительно, Достоевский так грубо-хаотически, так вычурно-модернистически рассуждал и так плохо, так аляповато и претенциозно писал, никогда бы ему не создать «Преступления и наказания». Гроссман компрометирует своего героя непрошеным вторжением в его внутренний мир. От такого Достоевского, какого он представил, мутит, как от худших романистов декадентского типа — вроде Пшибышевского и его подражателей, ищущих во что бы то ни стало ужасов там, где их нет, визжащих, декламирующих и стонущих там, где можно просто говорить, вообще искажающих истинную и глубокую сложность жизни поверхностным, назойливым ее преувеличением.