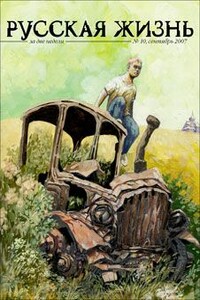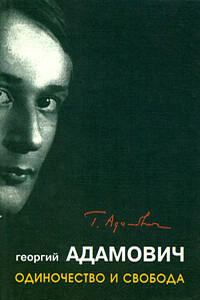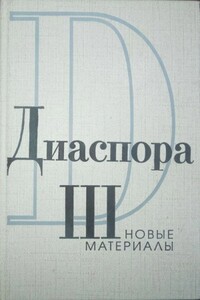Литературные заметки. Книга 2 | страница 76
– Ты теперь всему радуешься, положение твое такое. Тебя купили. Нет, не за деньги… но тебе верят безоговорочно. А это самая страшная монета!
Казалось бы, Леонову следует — по общепринятому советскому рецепту — провести своего профессора от раздумий и сомнений к окончательному уверованию в мудрость «нашей партии», к научному торжеству и победе над всеми врагами. Критика была бы довольна. Роман получился бы, как теперь в России говорится, «крепкий». Не знаю, был ли у автора «Скутаревского» такой план, но ничего невозможного в этом предположении нет. Я уже сказал, что в романе есть момент, когда возводимая Леоновым постройка как бы рушится, когда мир его как бы «раскалывается», и в бездушную, мертвенную, надуманную фабулу вторгается настоящая жизнь. Если бывают книги, о которых хочется заметить, что у автора «правая рука не знает, что писала левая», то, кажется, никогда эта поговорка не была уместнее, чем в применении к «Скутаревскому». В этом и сила, и слабость романа: сознание Леонова не поднимается высоко, но лучшие главы его книги написаны как будто бессознательно, в каком-то странном, грустном оцепенении. Советские критики по привычке ищут в каждом литературном произведении вывода, тенденции: вот этим, например, образом автор «сигнализирует» о прорыве на таком-то участке идеологического фронта, другим — указывает на срочную необходимость такой-то меры… Подобные опыты уже проделываются над «Скутаревским». Но критики в явном недоумении: ничего нельзя найти определенного у Леонова, ни «сигнализаций», ни указаний, ни даже «четкой классовой зарядки». Начнет он сигнализировать, — и тут же бросает, не договорив самого существенного. Сделает вид, что заряжен классовой бодростью, — и вдруг пишет что-то «о великом одиночестве человека на земле». И это в завершающий год пятилетки одиночество-то, в дни невиданных социалистических триумфов и завоеваний! Остается только признать «Скутаревского» роковой и непонятной ошибкой. Критика так и поступает.
Трещина в романе впервые чувствуется в тех главах, где появляется женский образ, т. е. любовь. Достойно внимания, что она разверзается в подлинно-зияющую пропасть там, где входит в роман Леонова смерть, — в главе, посвященной самоубийству сына Скутаревского. Профессор с высоты своего материалистического миросозерцания склонен посмеяться над «проклятыми вопросами», но автор, кажется, не вполне уверен, что его герой прав. У постели самоубийцы, бывшего в связи с группой инженеров-вредителей, Скутаревский гневно спрашивает: