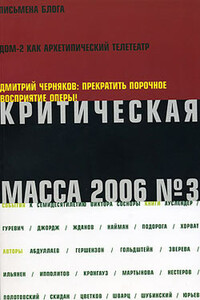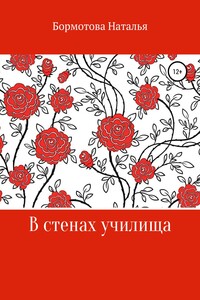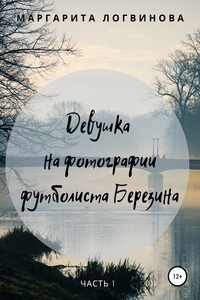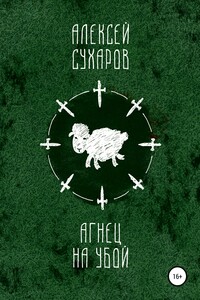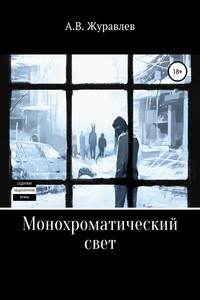Критическая Масса, 2006, № 2 | страница 68
Оповещенный об этом впервые Тимуром зритель бросал взгляд на противоположную стену и видел картину Егельского «Святой Себастьян» — на большом вертикальном формате в профиль был изображен обнаженный загорелый юноша, лицом напоминающий Дениса. Фон — нежно-голубой, живопись католическая по форме, как у южных пограничных славян в церквях XVIII века — у поляков, украинцев, венгров. Холст вокруг тела весь покрыт по голубому красными гвоздиками, которые в 1990-м еще производили миллионами для нужд Первомая. Осенью 1991 года Виктор Мизиано открыл в Кусково выставку «Эстетические опыты», где в гроте были экспонированы дебютные произведения группы АЕС, очень похожие на Егельского, только лишенные нарциссической любовной энергетики, напитавшей плоды нашего неоакадемизма. Возвращаясь к «Туризму» Тимура, должна сказать, что не знаю, видел ли Тимур тогда инсталляции Кабакова (одну — «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» — точно видел в 1989 году в Париже Хлобыстин и рассказывал о ней). Однако в «Туризме» он концептуально обыграл тему Кабакова: инсталляция как акт музеефикации какого-то чудесного события, от которого остались выставленные «реликвии». В данном случае таким событием были невыдуманные явления в Ленинграде живых икон авангарда Кейджа и Раушенберга. Тимур прокомментировал музейную репрезентацию по-своему, не только инсталлируя документы и артефакты, но и создав из занавески и пустых упаковок картину, уникальный художественный образ. Присутствие этого образа, явление пусть и почти бестелесного, уплостившегося и наполовину прозрачного облика картины было принципиальным для эстетической концепции Тимура, который, в отличие от Кабакова, не обожествлял архив, погружая зрителя в лабиринты бумаг, но стремился образы из памяти сделать пластически живыми, явить их «в полный рост» с идеальной, «исправленной кармой».
* * *
В первом манифесте 1991 года «Несколько мыслей по поводу такого странного явления, как неоакадемизм» Тимур выскажется против уравнительного принципа архивирования или музеефикации, объединяющего «Рембрандта и обломок расчески» в качестве единиц хранения. Аналогичные протесты против музеефицированного искусства высказывало каждое поколение авангарда с 1900-х годов. В 1980 году один из идеологов американского постмодерна Дуглас Кримп в статье «На руинах музея» доказывал, что постмодернизм возвращает в искусство пульс, давно угасший в безграничных модернистских хранилищах. Тимур, в отличие от этих ритуальных требований самообновления искусства, новым русским классицизмом запустил в действие целую энергетическую сеть, соединив вопрос о смысле искусства, о художественной репрезентации с вопросом о самой возможности искусству быть. Обращаясь к неоклассике, к теме совершенного образа, Тимур фокусировал внимание на том, что искусство, которое в принципе лишено идеальной мечты о себе, готово искать свой смысл везде и делать это хаотично, не способно выжить. Если в «Горизонтах» Тимур тематизировал ресайклинг и возможность получения совершенно новых картин из тиражных материалов, совершая выход из замкнутого круга тогда еще очень модного постмодернизма, то в начале 1990-х годов он эксплицитно сформулировал экологическую необходимость работы с идеальной моделью в целях самосохранения европейской культуры. В Петербурге, в самом его классическом идеальном пейзаже Тимур видел воплощенную европейскую мечту о совершенной организации пространства жизни, которая в Европе была прочно забыта и подменена дизайном. Мечта о Европе, как мне представляется, и есть та ценность, которую русское искусство несет в себе и которой оно способно поделиться с Западом. Смысл художественного творчества и стратегии Тимура в 1990-е заключался в реактивации пространства европейской классики как той основы, где только и может происходить самоидентификация культуры европейской и российской в том числе.