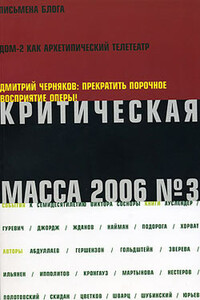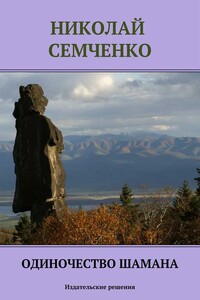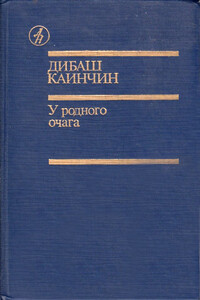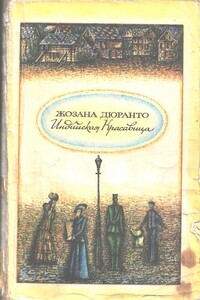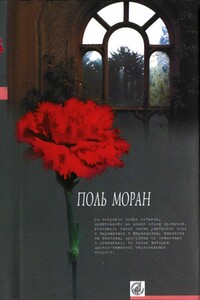Критическая Масса, 2006, № 2 | страница 26
В советской России только государство могло организовать и поддерживать стабильную систему литературного премирования. Но в 1920-е годы литература лишь небольшим своим краем входила в круг государственных интересов (симптоматично, что учрежденная Наркомпросом в 1924 году Ленинская премия «за лучшие художественные произведения, отображающие образ Ленина» [29], ни разу в 1920-е годы не была присуждена писателям). Только после организации Союза советских писателей и проведения в 1934 году I съезда писателей, только после становления новой системы материального стимулирования писательской работы в 1940 году была учреждена Сталинская премия, ставшая высшей наградой для советского литератора [30].
Русский Букер и все-все-все. Комикс Елены Фанайловой
Произведение можно считать искусством, если в нем есть содержание. Причем довольно простое — справедливость и так далее; идеалы, которые существуют с начала цивилизации.
Василий Шумов, музыкант, лидер группы «Центр»
Неизбежное предуведомление: данный текст не является обзором деятельности Букеровского комитета, Букеровского жюри, авторитетным рассмотрением какой бы то ни было политики Русского Букера. Это всего лишь скромное описание некоторых внешних черт публичного функционирования премии, нечто вроде скетча или, точнее, комикса, к тому же нарисованного недружелюбною рукою, поскольку автор этого текста не уважает современную русскую прозу. Не то чтобы он ее сознательно и активно отвергал и вообще испытывал какие-либо сильные эмоции на ее счет; просто она автору совершенно неинтересна и не нужна для нормального функционирования — ни биологического, ни артистического, ни медийного его тела. Русская проза букеровского формата ничего не сообщает моему читательскому телу, и более того, требует от него, тела, каких-то дополнительных биоэнергозатрат, как будто тексты большинства русских авторов есть скрытые вампиры (есть подозрение, что это происходит от размытости моральных принципов и соответствующей нечеткости формулировок). Кстати, подобные реакции начались у знакомого мне ближе всего (сказал бы тут Монтень, извиняясь за первое лицо в изложении) читательского тела примерно тогда, когда по долгу службы радиожурналистом ему понадобилось знакомиться как раз с букеровскими шорт-листами, то есть примерно в 2001 году. Если мне необходимо пополнить свои знания о мире и получить необходимые жизнестроительные впечатления, я скорее открою какую-нибудь духоподъемную литературу типа жизнеописания хирурга Войно-Ясенецкого, он же Св. Лука Крымский, перечту «Опасные связи», Честертона, другие морализаторские вещицы типа «Незабвенной» или «Возвращения в Брайдсхед», где понятия о добре и зле, волшебство и увлекательность, нежность и стойкость, комизм и печаль есть аболютная данность текста. Наконец, если делать сравнение литератур в истории более корректным, я полистаю «Попугая Флобера», почитаю Тони Парсонса или Дневник Адриана Моула. Я даже не побрезгую кулинарной книгой, потому что знаю, зачем она написана. Чего по большей части не могу сказать о русской прозе в том ее варианте, который предлагают букеровские шорт-листы.