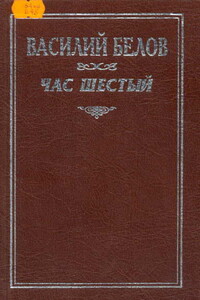Кануны | страница 153
Игнатий Сопронов вышел в коридор, сел, развязал котомку и поел хлеба вприкуску с постным, иначе фруктовым, купленным в Ленинграде сахаром. Потом ощупал бумажник с деньгами, хотел распороть внутренний пиджачный карман, где был зашит партийный билет, но раздумал.
На душе копилась тревога и пустота. Он ни за что на свете не хотел возвращаться домой в своем теперешнем виде. Хватит того, что было. И так после того собрания вся волость смеялась над ним. Хорош же оказался тогда и Яков Меерсон! Он не ударил палец о палец, чтобы защитить Сопронова. «Теперь вот и Лузин, этот чистоплотный оппортунист, в уезде работает, — подумал Сопронов. — Что творится… Но кого же поставили председателем в Ольховице?»
Его сморило на коридорной скамье. Он медленно, все ниже и ниже клонил нестриженую свою голову и, уткнувшись в угол, незаметно заснул. Сон его был странным и каким-то удушливым. Нелепые и обрывочные картины, переметанные по месту и времени, сменились вдруг четким и тягуче-тягостным видением: он, Сопронов, ходит по отцовскому дому. В доме никого нет, все пусто, а он ясно слышит, как на верхнем сарае шумит и веет июльский ветер, и ему, Сопронову, мучительно хочется спать. Ему просто невыносимо хочется спать, а он все ходит и не может, не знает, где бы прилечь. Он не находит этого единственного необходимого места и все ходит по дому, ходит на сарае, по лестнице, в летней избе и в зимовке, он даже хочет влезть на чердак. Когда же он найдет то, что ищет, что исчезает, ускользает от него? Кажется, вот-вот — и он нашел это место, где можно наконец прилечь и уснуть. Уснуть сладко, надолго. Но нет, все не то, все совсем не то, и он вновь тяжко ходит по дому.
Дальний и такой неуместный, ненужный, словно из другого мира голос послышался ему, мешая сосредоточиться и найти то, что так мучительно хочется отыскать.
Он очнулся, девушка-секретарь будила его, трогая за плечо:
— Товарищ Сопронов! Слышите, товарищ Сопронов? Проснитесь же, вас приглашает товарищ Ерохин.
Сопронов вскочил, извинился.
Оставив котомку на скамье в коридоре, ладонями пригладил серые, непомерно выросшие волосы и прошел в приемную.
Девушка открыла ему дверь, он вошел в кабинет Ерохина со смешанным чувством почтительности, приятного подобострастия и сдержанной злобной решительности, готовой вырваться из него в любую минуту.
Бывший комиссар Шестой, сражавшейся на Севере самойловской армии, ныне секретарь укома Нил Афанасьевич Ерохин, поджарый, жилистый, носил военную форму. Он давно позабыл про свой возраст, лет своих не считал, зато хорошо помнил, сколько раз сам бывал за чертой, сколько буржуев и контриков отправлено за эту черту. Он не любил кабинетную бумажную жизнь и все еще был как на фронте. Там, на прохладной, кровью вскипавшей Двине, под Шенкурском, все было легче и проще. Рази и пали во вражье сердце, иди и рази интервенцию, если не хочешь на остров смерти Мудьюг. Тут уж, как он говорил, кто кого. Теперь все было не то и как-то невесело. Но Ерохин был не из тех, чья кровь закисает при первой оттепели. Он по-прежнему носил защитную, с глухим воротом гимнастерку, не расставался с командирской сумкой и биноклем. Ерохин был холост и ночевал то в кабинете, то в дальней деревне. А то и под одиноким стожком, в лесу, привязав за повод к сапогу запаленного укомовского жеребчика.