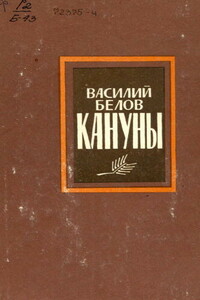Час шестый | страница 19
Палашка заохала и убежала к яме, в которой замочила армяк.
Хотелось Евграфу рявкнуть на дочку и за бабью рубаху с крестиками по вороту, и за тюремную справку. Но от рявканья-то что толку?
Он медленно приходил в себя. Думал про беспортошную свою жизнь, про армяк, пропахший ночным золотом. Настроение Евграфа снова упало. Чего ни передумал он, пока сушились на жердке тюремные залатанные, но уже чистые пгганы! Обида медленно отходила от сердца…
Виноваты ли бабы, что не припасли смену белья? Два года живут на чужом подворье, ни кола, ни двора. Ладно, что хоть по миру теперь не ходят. Ан, и по миру Марья хаживала! Самоварихе-то в ноги надо бы поклониться. Пустила в избу троих. Еще и четвертый явился…
Евграф, скрепя сердце, напялил на себя широкую бабью рубаху, заправил ее в худо просохшие штаны. Понюхал, а они все еще слегка отдавали городским вологодским духом.
Ну, а дальше-то как быть? На сенокос без порток, с голой задницей? Да ведь Киндя Судейкин сразу стихи выдумает, вся Шибаниха будет слушать и хохотать…
Евграф выглянул из предбанника. На тропке вроде бы никого не было. Вроде пусто и в соседних загородах. Воровски, словно тать ночной, он заспешил вверх, в деревню. Только хотел поскорей свернуть в заулок к Самоварихе, как Володя Зырин с луковым гроздом в руке выскочил на тропинку:
— Евграф Анфимович, с легким паром!
— Спасибо, дружочик, спасибо.
От Володи нельзя было убегать сразу, с начальством требовалось хоть как-то перемолвиться, и Евграф спросил, какова жизнь.
— Мы-то почти все вверх головой. Один Митя Куземкин третий день на карачках, — хохотнул Зырин.
— Неужто пьет? — удивился Евграф. — Ведь начальникам-то вроде нельзя.
Володя засмеялся:
— А мы с ним потому и веселые, что начальники! Сено косить нам некогды, надо руководить Шибанихой. Я тоже, вишь, Митьке подсобляю иной раз… Голова, бывает, как чугунок… Заходи, ежели!
— Заходи и ты! Правда, живем-то… в чужих людях.
Евграф хотел было сразу поговорить насчет Митькина сруба, но Володя, отбиваясь от комаров, исчез.
Заблудившийся чей-то баран тыкался из одних ворот в другие. Охрипший и бестолковый, он побежал в другой конец Шибанихи. И Миронову припомнился тридцатый год, как разбирали скотину после статьи Сталина.
Солнце только что село. Бирюзовое небо на западе еще ярко светилось, но в зените оно мрачнело, переходило в кубовый, затем в неопределенный цвет, и чем ближе к восточному горизонту, тем становилось темнее. Кричали дергачи у реки. Комаров было густо. Большая ночная птица лунь бесшумно шарахнулась в теплом ночном воздухе. До одури сильно пахло ромашками. От домов веяло запахом коровьего молока, лошадиного пота и вечерним дымком. Отблеск дальней грозы вернул Евграфу острое чувство родины.