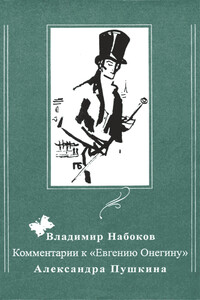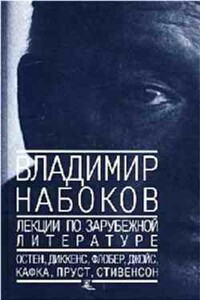Комментарий к роману «Евгений Онегин» | страница 13
Если круг реальных претенденток у Набокова относительно узок (он вполне мог бы быть расширен за счет множества гипотез), то литературное поле, в котором мог вдоволь нагуляться Пушкин, представляется достаточно обширным и хорошо обработанным. Еще во втором столетии нашей эры, уточняет комментатор, его начал обрабатывать Люций Апулей, трудились на нем Лафонтен и Бен Джонсон, Томас Мур и Байрон, Ламартин и Гюго, наконец, из русских авторов — Ипполит Богданович. Такая цепочка предшественников Пушкина может смутить кого угодно из ревнителей самобытности поэта, но только не Набокова. Он убежден, что нисколько не умаляет оригинальности, а главное, достоинств пушкинской поэзии тем, что с последовательным упорством (по мнению оппонентов Набокова, достойным лучшего применения) изыскивает всевозможные источники тех или иных пушкинских тем, мотивов, образов, пассажей и даже литературных оборотов. На необработанном, неуготовленном поле взойти могут разве что сорняки, а никак не первоклассные плоды, каковыми Набоков почитает пушкинские творения.
Знаменательно и то, что в этом фрагменте его Комментария выразилась общая тенденция Набокова — принципиальный отказ от поиска реальных прототипов лирических героев, что нашло поддержку в позиции ведущих отечественных пушкинистов, хотя и они, подобно Набокову, порою пытались уловить тени, отраженные некогда в зеркале пушкинского гения. Удивительна способность Набокова прозреть то, что ему в силу обстоятельств было недоступно.
В свое время недостаток в отечественном пушкиноведении комментаторских работ по «Евгению Онегину» был одной из причин того, что Набоков взялся за его исследование. Так, весьма существенным стимулом к работе над пушкинским романом было желание Набокова перекрыть такой вульгарно-социологический комментарий к нему, каким был единственный труд этого рода до набоковского Комментария — «„Евгений Онегин“. Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы» Николая Леонтьевича Бродского, впервые опубликованный в 1932 г. и выдержавший множество переизданий. Набоков пользовался третьим изданием 1950 г. Никому из переводчиков и комментаторов «Евгения Онегина» так не досталось от Набокова, как Бродскому. Уничижительные эпитеты и определения в его адрес рассеяны по всему Комментарию: «идиотический Бродский», «советский лизоблюд» и т. д. Набоков, чье «политическое кредо, — по его собственным словам, — было твердо, как гранит», конечно, не мог иначе как с отвращением принять комментарий, в предисловии которого сказано: «Великая Октябрьская социалистическая революция до основания смела тот социально-политический порядок, в котором задыхался национальный гений и который погубил поэта вольности, врага „барства дикого“ и царизма, и вызвала к творческой жизни подлинного хозяина страны — народ, на долю которого при жизни поэта, по его словам, выпала „крепостная нищета“». И далее: «Советский читатель в романе Пушкина — этой „энциклопедии русской жизни“ первых десятилетий XIX века — встречает характерные подробности чуждого ему быта…» и т. д.