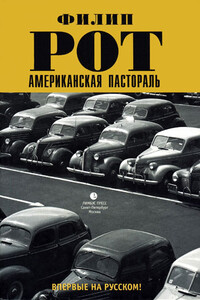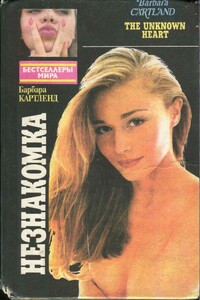Людское клеймо | страница 86
Долго еще в тот день она рассказывала Коулмену фольклорно-экзотические истории, в которых ее детство и юность над кондитерской в Пассейике, принадлежавшей таким живописно-темным индивидуалистам, как Морис и Этель Гительман, представали мрачным приключением, чем-то не столько даже из русской литературы, сколько из комиксов на русские темы, словно Гительманы были свихнувшейся соседской семейкой из напечатанного в воскресном номере рассказа в картинках "Карамазовы". Все это походило на спектакль, сильный и выразительный, и автором его была девушка, которой едва сравнялось девятнадцать, сбежавшая из Нью-Джерси на другой берег Гудзона, — хотя буквально все гринич-виллиджские знакомые Коулмена откуда-нибудь да сбежали, в том числе из таких неближних мест, как Амарилло, — давшая деру без всякой идеи кем-то стать, только с тем, чтобы получить свободу, очередная экзотическая особа без гроша в кармане на подмостках Восьмой улицы, экспансивная брюнетка с театрально-крупными чертами лица, неугомонная, "фигуристая", как тогда говорили, зарабатывавшая на учебу в удаленной от центра Студенческой лиге искусств отчасти тем, что позировала обнаженной, девушка, чей стиль был — не скрывать ничего, которая не больше боялась вызвать переполох в общественном месте, чем исполнительница танца живота. Ее шевелюра — это было что-то особенное: лабиринт, бурное море, неистовый венок из спиралей и завихрений, курчавое нагромождение, вполне подходящее по величине, чтобы сойти за рождественский парик. Весь сумбур ее детства, казалось, воплотился в извивах этих зарослей. Ее неукротимые волосы… Ими можно было драить металл, нанося их строению не больший ущерб, чем если бы они были неким жестким рифообразующим организмом, извлеченным из чернильных глубин океана, — непролазным живым угольно-черным гибридом коралла и кустарника, не лишенным, возможно, лечебных свойств.