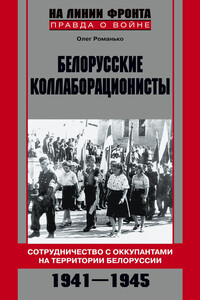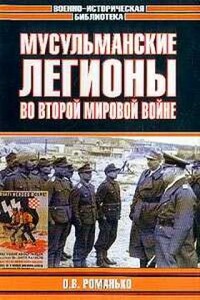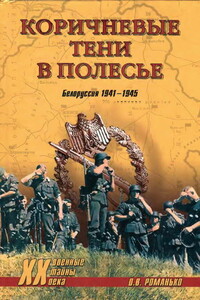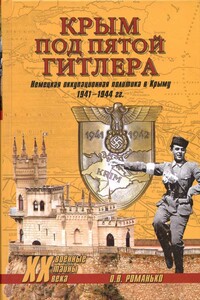Легион под знаком Погони | страница 5
Для вышеуказанных работ белорусский коллаборационизм являлся только фрагментом, причем, разумеется, неглавным. И в этом – органическая связь второго периода советской историографии с первым. Однако, его основной особенностью, в данном случае, является появление работ по проблеме коллаборационизма, которые уже можно назвать условноспециальными исследованиями. Речь идет о монографии В. Романовского «Соучастники в преступлениях», поднявшей изучение этой проблемы на качественно иной уровень. Как и работы предыдущих авторов, ее основная цель и методический принцип – разоблачение белорусского национализма. Тем не менее, монографию Романовского отличает системность изложения и использование ранее не публиковавшихся архивных документов. Впервые указана связь коллаборационистских формирований с белорусскими коллаборационистскими организациями – Белорусская народная самопомощь (БНС), Белорусский совет доверия (БРД) и Белорусский центральный совет (БЦР). Наконец, положительным моментом следует назвать отсутствие некоторых идеологических штампов еще сталинской эпохи[3].
Попыткой белорусских историков подвести итог под 40-летним изучением периода Второй мировой войны является трехтомное исследование «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны». Несмотря на то, что материал книги «идеологически выдержан» и не выходит за рамки господствующих стереотипов, проблема белорусских коллаборационистских формирований рассмотрена в ней несколько по-новому. Впервые в советской историографии они показаны как часть системы немецкого оккупационного режима, что дает некоторое представление об их генезисе, развитии и роли в борьбе с советскими партизанами и подпольщиками. При этом центральное внимание уделено сюжетам, связанным с разложением партизанами и подпольщиками коллаборационистских формирований[4].
Перестройка и общая либерализация общественно-политической жизни позволила сделать значительный шаг вперед в деле изучения проблемы коллаборационизма. Начиная с 1985 г., уже можно говорить о том, что этот феномен становится самостоятельным сюжетом в историографии Второй мировой войны. При этом, необходимо отметить следующие тенденции. Появляется новая точка зрения на коллаборационизм, которая серьезно отличается от официальной. Нельзя не отметить, что это происходит под воздействием зарубежной (и, в том числе, эмигрантской) историографии, многие работы которой стали теперь доступными для советских историков. Еще одним серьезным толчком для такой идеологической переориентации стало то, что были открыты многие, ранее недоступные, архивные материалы. Все это привело к существенным методологическим изменениям в изучении проблемы коллаборационизма. Например, военный коллаборационизм стали исследовать, как в целом, так и по его отдельным аспектам. В результате, к 1991 г. в советской историографии Второй мировой войны, наряду с официальной точкой зрения на проблему сотрудничества советских граждан с германским военно-политическим руководством, сформировалась новая позиция. Применительно к теме диссертационного исследования они были представлены, соответственно, Б. Мартыненко и А. Колесником. Именно в работах этих историков, указанные тенденции прослеживаются наиболее четко