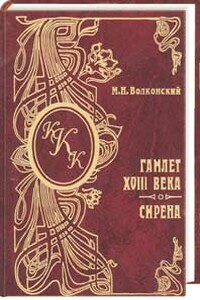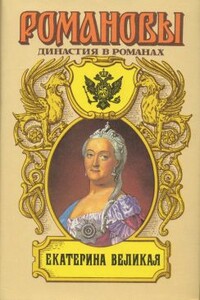Кoнeц легенды | страница 30
Башня воплотила в себе тоску по возлюбленному женщины, которая оставалась неприступно-глухой к тем, кто жаждал ее близости и благосклонности, и кротко улыбалась единственному, желанному, находившемуся вдалеке, звала его с мольбой и тоскою, суля радость и ласку.
Зодчий, выстроивший эту башню, проникновенно передал неизбывную тоску и любовь юной ханши к своему возлюбленному, так долго не возвращавшемуся из далекого похода…
Вблизи башня ослепляла яркой, броской красотой, а, постепенно удаляясь, окутывалась голубым маревом, точно погружалась в печаль, от которой щемило сердце.
Она выражала немую мольбу: «Неужто покидаешь меня?.. Не уходи… Останься… Ради всего святого останься… побудь со мной… со мной…»
«Стой! Вернись!»
Неожиданный, как окрик, властный зов грубо оборвал все думы, точно поразил его в самое сердце. Повелитель вдруг резко выпрямился, оттолкнувшись спиной от мягкой подушки сиденья, но промолчал…
До самого дворца он старался больше не смотреть в сторону башни. Он не мог сейчас предположить, на какие лады истолкуют завтра праздные нукеры его неожиданный порыв, и потому поспешно откинул голову на спинную подушку и прикрыл глаза.
Неспокойно было на душе, отчего-то мутило, ион не притронулся к обеду. Только отведал ломтик дыни, охлажденной в меде, и от приятного холодка тошнота исчезла. На этот раз яблока не было. У служанки — он это сразу заметил за легкой накидкой на ее лице — глаза были подчеркнуто вежливо опущены долу…
Когда служанка вышла, он уставился на монотонно сочившуюся прозрачную воду в хаузе, выложенном посередине дворцового зала из бурых, розовых, голубых мраморных плит, и задумался… Глядя на капли, похожие на слезинки и бесследно исчезающие где-то в глубине бассейна, он чувствовал, что сердце его смягчается, оттаивает. Плотный наст суровости и жестокости, намерзший в душе за долгие-долгие годы, вроде рыхлел, крошился от каких-то неведомых ему нежных чувств, напоминавших ласковый весенний ветерок, и Повелитель весь обмяк, поддавшись печали одиночества. В нем вдруг неожиданно проснулась жалость. Он и сам еще не мог понять, чего ему стало жаль: то ли этой воды, зажатой в каменные тиски и потому исходившей безутешными слезами, то ли сироту-башню, оставшуюся там, в зыбком голубом мареве… Что-то чистое и нежное, охватившее всю его душу, напомнило вдруг снова Младшую Ханшу. Да, да… она, бедная, в облике этой башни передала ведь не только свою многолетнюю тоску по любимому, нетерпеливое желание скорой встречи и неуемную страсть, обжигавшую ее невинное существо, но и намекала на свое безысходное одиночество в среде чуждых ей людей, на обиды, которые приходилось терпеливо сносить, на подавленный дух, на отчаяние, вырывавшееся в безмолвном крике: «Приди же… услышь меня… пойми… защити!» Разве сочетание надменной холодности и кроткой нежности, гордости и покорности, тоски и страсти не означает всеобъемлющего понятия — любовь?!